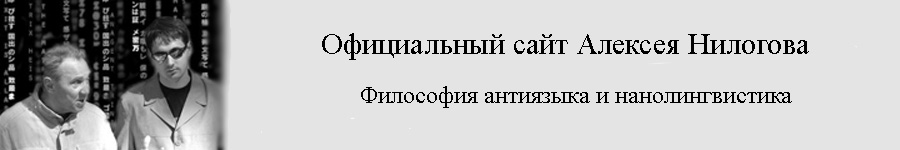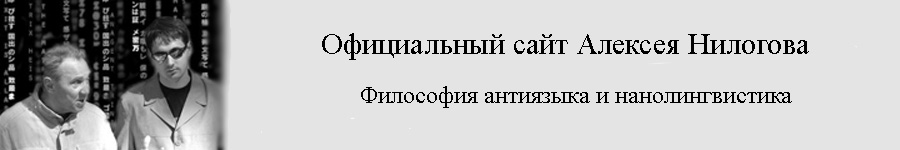Герман Михайлович Преображенский (р. 1974) – философ. Окончил философский факультет в Томске. Стажировался в Страсбурге. Окончил аспирантуру в СПбГУ. До 2003 года публиковался под псевдонимом Михаил Стариков. Автор более 30 статей. С 2008 года живет и работает в Анапе. Автор книги «Смысл коммунизма». Герман Михайлович Преображенский (р. 1974) – философ. Окончил философский факультет в Томске. Стажировался в Страсбурге. Окончил аспирантуру в СПбГУ. До 2003 года публиковался под псевдонимом Михаил Стариков. Автор более 30 статей. С 2008 года живет и работает в Анапе. Автор книги «Смысл коммунизма».
Сегодня в России растет спрос на марксистскую и неомарксистскую литературу. А в канун 2011 года в издательстве «Алетейя» вышла книга Германа Преображенского «Смысл коммунизма. Опыт ретроспективного исследования». В книге мысль раннего Маркса вводится в эллинистический контекст (Эпикур), дан ретроспективный взгляд на феномен «коммунизма» и осмыслено его восприятие последним коммунистическим поколением 1980–1990-х годов. С философом Германом ПРЕОБРАЖЕНСКИМ беседует Алексей НИЛОГОВ.
– Герман Михайлович, что вы понимаете под коммунистической чувственностью? Чем коммунистическая чувственность отличается от коммунистической чувствительности?
– Поскольку я вскрываю в своей работе атомистическую подоплеку Марксова коммунистического проекта, постольку чувственность здесь мыслится в русле античного натурализма Лукреция и Эпикура. Я показываю, что коммунизм как проект реабилитации человеческой чувственности, сформулированный Марксом в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», должен быть осмыслен из интереса раннего Маркса к античному натурализму и соответственно из радиоактивно-атомистического видения мира и соотносимой с ним специфической антропологии эпикурейцев.
– Какое определение вам ближе всего: марксист, марксовед, марксоид, марксолог, марксофил? Как вы охарактеризуете постсоветский марксизм? Состоится ли у нас реинкарнация марксизма?
– Постсоветский марксизм, конечно, неоднороден: с одной стороны, ещё активны впавшие в маразм представители научного коммунизма, с другой – модная молодёжь, которая всё это уже прожевала или уже не помнит. Бородатый Маркс – это вечный модерн и полный кайф для всех!
По поводу самоопределения хочется ответить, что я марксоид. В этом есть какая-то правильная радиация; но скорее – марксолог, потому что меня интересует не столько реальный историко-философский захват Маркса (что делало бы меня марксоведом), сколько смысловая подоплёка его коммунистического проекта.
– Как вы оцениваете вклад советской философии? Насколько призраки диамата и истмата изжиты из русской философии?
– Специфика советской философии состояла в её идеологической обусловленности, поэтому значимые философские движения происходили постоянно как бы не по её ведомству. Приличные люди уходили в методологию науки, в педагогику, в инженерное конструирование. Было много ярких имён и в Московском методологическом кружке, и в ТРИЗ. Были талантливые одиночки – Александр Зиновьев, Генрих Батищев, Давид Зильберман. Другим специфичным обстоятельством стал возникший на рубеже 90-х разрыв поколений в философии: с одной стороны, великовозрастные представители истмата и диамата не слишком этически легитимны в глазах более молодой философской поросли, а с другой – это делает последних слепыми в отношении действительно продуктивных движений в советской философской традиции и закрывает возможность современного переоткрытия более молодыми авторами её несомненных философских достижений.
– Какова, на ваш взгляд, судьба левых идей в России и в мире?
– Для меня это вопрос не на одну затяжку. С одной стороны, у нас так повелось, что левый значит верный, а с другой – ведь Егор Летов ещё в 1988 году пел «Давайте будем жрать!» – вот настоящий голос нашей современности. Какие уж тут левые идеи?.. Идея нынешней России прямая, как доска. Единственное, что нам осталось от левой идеи, – это память о том, что мы могли бы быть другими.
– Что вы можете сказать о современной русской философии? Какими именами она представлена?
– С русской философией по-прежнему парадокс: философов много, а философии всё нет. Мы по-прежнему пережёвываем то, что европейская и американская культура спокойно переваривала в течение полувека. Спрессованный эрзац западного опыта, оторванный от реальных исторических задач, – вот что составляет главный предмет интереса большинства в России. Впоследствии нам нужно будет вернуться к опыту отечественной истории и философии, чтобы осмыслить её. В Европе за это время возникнут совершенно иные задачи, а нас уже к тому времени снова начнут сажать. Все, кто живёт в России сейчас, будут забыты. Самое удачливое поколение – это люди, родившиеся в конце 1950-х – начале 1960-х годов, которые жили при коммунизме 1970-х. Современной русской философии не существует. В России кто-то постоянно хочет кем-то стать, кем-то чужим себе, даже не предполагая того, что сам существует лишь по эту сторону экрана, являясь только потребителем. Наверное, Александр Секацкий прав в том, что мы друг друга не читаем, а читаем немцев, американцев, японцев, французов и прочих. У нас много неординарных философских фигур, но они, как волосы – чем реже, тем легче вычёсывать, а должно быть немного по-другому. Тяжёлое наследство, усугубленная отдельность от мира, жуткая индустриализованная массовость и крайний цинизм на факультетах, отсутствие размеренной цивилизованной издательской политики – вот наши философские реалии.
– Как вы относитесь к философским идеям Александра Секацкого? Чем вы объясните их коммерческую успешность?
– На мой взгляд, наиболее успешная из его книг – «Прикладная метафизика». Секацкий гибок, открыт, свободен, но не от собственной важности. Всё это в конечном счёте вкупе с интеллектуальной красотой сделало его книги популярными. Не стоит говорить, что я, дескать, не писал для массы, как сам Александр Куприянович рассказал в программе «Школа злословия». Стоит апеллировать к тому, что, когда начинает звучать Букстехуде или Моцарт, никто не спрашивает, почему он популярен. Главное – попадать своими высказываниями в жилу времени, прошивая насквозь саму его душу.
– Что представляет собой философская жизнь в Томске? По-прежнему ли действуют философское кафе и философский клуб, в организации которых вы приняли непосредственное участие? Можно ли назвать такую коммуникацию философотерапией?
– В Томске есть философский факультет, где я учился и работал, но к которому у меня сейчас более чем прохладное отношение. Есть такие одиночки, как Николай Карпицкий или Евгений Борисов, работающие, однако, в совершенно разных плоскостях и не замечающие друг друга. Философский клуб – ещё моя студенческая затея. Это была весёлая пора, но он уже своё отработал, к его темам, стилистике, а в особенности к его специфическому живому духу сейчас уже невозможно вернуться. Тем не менее я до сих пор поддерживаю отношения с некоторыми из участников. Философское кафе, которое существует с 2006 года, не собирает много людей: это постоянная немногочисленная группа, не рассчитанная на молодёжную публику; правда, качества обсуждения и обилия интересных встречных движений недостаточно, чтобы говорить о какой-то философской жизни. Терапевтический эффект есть у любой философской работы, но если он становится целью, это очень быстро приводит к вырождению. Чтобы сохранять плодоносность таких площадок, нельзя допускать «разговоров за жизнь», что в любом случае приходит только с опытом.
– Какое место в русской философии вами отводится писателю Андрею Платонову?
– Андрею Платонову удаётся провести коммунизм из несбыточного идеологического будущего через травматическое литературное настоящее в продуктивное с точки зрения духовной практики коммунистической работы со временем в безоговорочно утраченное прошлое, сделав его мощным источником для продолжения реализации марксистского проекта. Платонов первым показывает, что главный ресурс коммунизма – память – всё ещё не открыт и не помыслен.
– Можете ли вы объяснить, почему культурная парадигма постмодерна была столь нигилистически воспринята в России?
– Если это был нигилизм, то в совершенно точном ницшевском смысле. В целом это продолжение разговора о призраках истмата. Дело в том, что так называемый постмодернизм сразу ложился в 1990-е годы на остававшийся совершенно неотрефлексированным и посему неизменным контекст выбитых скрижалей научного коммунизма и диамата. Именно по этой причине возникали монструозные перекосы: взрослые состоявшиеся лекторы стали говорить не своим языком, на осознание смысла и контекста возникновения которого тогда просто не было времени. Подчас это было ужасно. Другая часть лекторов заняла жёсткую нигилистическую позицию по отношению к этому «знамению эпохи», почти не улавливая его смысла.
– Вы стажировались во Франции и, наверное, смогли бы сказать о том, каково сейчас влияние французской философии?
– Я общался с Жан-Люком Нанси и Филиппом Лаку-Лабартом. Нанси уже не работал, у него я бывал дома, а Лабарт читал спецкурс по философии искусства позднего Хайдеггера. Старики уходят, а смены им нет. У нас есть склонность мистифицировать писания французов. При чтении мы начинаем немного выдумывать за автора, а этого делать не следует. Деррида и Нанси очень точно знают разницу между «полагать» и «знать наверняка», но ничего более, «скрытого за текстом», они не сообщают. Это очень позитивная философия, а не Гегель или лекционный Шеллинг или Хайдеггер. Правда, в качестве исключения можно назвать Corpus Нанси, но это скорее тайная любовь к немцам, чем типично французский случай.
– Существует ли, по вашему мнению, опасность редукции онтологии (а в целом и философии) к математике (например, книга французского философа Алена Бадью «Бытие и событие»), а не к физике, поскольку математические модели по определению опережают их физическое (физикалистское) воплощение (например, в физике виртуальных частиц)?
– С книгой Бадью у меня сложилось впечатление, что это какое-то семейное дело: отец агреже математики, мама агреже филологии, а сын агреже философии. По содержанию это нормальный ход – адресация к философии математики и к аксиоматической логике, непрофильной для французов. У Бадью есть два разряда книг: первый наподобие «Манифеста» или «Этики» – ясные книжки с прозрачной структурой, но уязвимые в простых противоречиях (таково в «Манифесте» неявное допущение историзма); второй разряд – довольно тонкие, но непоследовательные и трудные для чтения, как «Гул бытия» или «Бытие и событие». Язык не повернется сказать, что книжки второго типа более значимы для философии, нежели первые, а первые более просты или поверхностны. Я бы не стал говорить об опасности редукции онтологии. Если Бадью говорит, что за бытие ответственна математика, то это его позиционный ход, поскольку нет никакой Онтологии, а есть онтологии.
– Как вы прокомментируете тот факт, что в России наблюдается бум аналитической философии?
– За аналитическую философию больше платят. Есть возможность съездить на стажировку за границу. Если честно, то эти проамериканские штудии обретают у нас черты сектантства: люди понимают, что занимаются ерундой, но продолжают своё дело, поскольку все вокруг этим занимаются. С одной стороны, это поклонение, а с другой – желание найти тихую гавань. Существует предрассудок «серьёзной философской работы», который некоторых заставляет следовать путём ортодоксальной феноменологии, других – протаптывать изъезженную колею франкфуртской школы, третьих толкает на респектабельную поляну аналитической философии. На мой взгляд, Витгенштейна можно адекватно помыслить скорее из Хайдеггера, нежели из Остина или Хинтикки. Отечественная аналитическая философия – это карьера для бывших комсомольцев или тех, кто мог бы им стать.
– Согласны ли вы с утверждением, что безумие, которому не привита его мудрость, не может считаться по-настоящему философским?
– Мой учитель в профессии Александр Полищук, мастер шизофилософии, говорил, что нужно приручить собственный психоз и апроприировать его. В этом смысле мудростью безумия может считаться умение протезировать социальные гештальты здоровья: если безумец достигает этого, то он сохраняет свою продуктивность. Выглядеть нормальным для нормальности гораздо важнее, чем действительно быть нормальным. Мудрость безумия состоит в том, что оно даёт почувствовать фиктивность нормальности, её хрупкость и неполноту.
http://exlibris.ng.ru/person/2011-03-31/2_german.html |