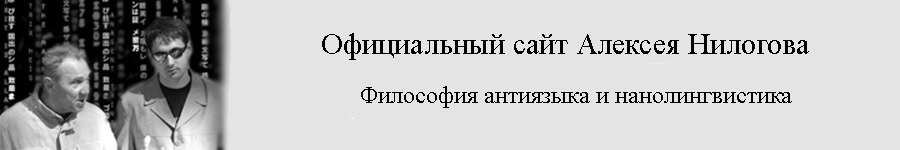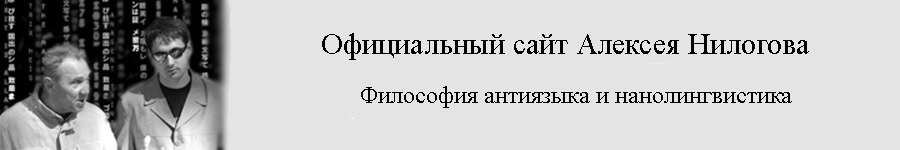Беседовал Дмитрий Фьюче
 Передо мной лежит книга, на обложке которой написано «Сплошной ressentiment (тенью странника)» и запечатлён молодой человек, сидящий в позе современного мыслителя, кажется, … на унитазе. Книга посвящена автографу Сергея Александровича Шаргунова – современного молодого писателя, лауреата премии «Дебют». Передо мной лежит книга, на обложке которой написано «Сплошной ressentiment (тенью странника)» и запечатлён молодой человек, сидящий в позе современного мыслителя, кажется, … на унитазе. Книга посвящена автографу Сергея Александровича Шаргунова – современного молодого писателя, лауреата премии «Дебют».
Передо мной сидит автор этой книги, Алексей Сергеевич Нилогов, студент философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (спецотделение). И в начале интервью я хочу привести несколько мне особенно понравившихся эгоафоризмов нашего сегодняшнего гостя (эгоафоризм, по его словам, это афоризм о себе и для себя):
«Я не исследователь, а естествоиспытатель, ибо лишён систематического мышления»;
«Я счастлив, когда не могу себя предвидеть»;
«Я пришёл в этот мир для того, чтобы разрушить его своим несовершенством»;
«Вся предшествующая философия суть большой комментарий моего Я»;
«Люди жаждут сохранить независимость, чтобы иметь возможность отдаваться»;
«Я начинаюсь там, где мне не видно конца»;
«Оставить себя я могу лишь наедине с самим собой»;
«Моим уделом должна стать просветлённая УСТАЛОСТЬ»;
«Я есмь транс-дискурсивный эклектик»;
«Ницше есть моё отхожее место»;
«Очиститься от скверны душевных переживаний»;
«Распластавшись в собственной индивидуальности»;
«Постоянная настройка мотивации»;
«Скучно с теми, у кого основания превосходят следствия»;
«Существуют мысли, на которые нельзя даже сослаться»;
«Не в наших силах побороть томление духа, но наши потребности превосходят возможности своей реализации»;
«В начале было слово “фальстарт”»;
«Будущее – за проигрышем».
Д. Ф. В своей книге «Сплошной ressentiment» ты делаешь совершенно чудовищные замечания в адрес Ницше. Не спрятана ли за ними твоя любовь к нему?
А. Н. Главное – это избрать правильный метод, чтобы не раскидываться словами просто так.
Д. Ф. История твоего знакомства с Ницше? Ты прочёл все работы или что-то выборочно? И вообще, как тебе дался твой разговор с Ницше, как ты поговорил с ним?
А. Н. Сначала я познакомился с ним как со стереотипом, включая и связь его имени с фашистской идеологией. А потом начал читать, начал с «Еcce Нomo». Дальше – «Так говорил Заратустра», и, наконец, все остальные основные произведения. Он захватил меня своей манерой философствования, поскольку ни с чем подобным я ни разу не встречался. И хотя с афоризмами я, разумеется, был знаком, но это были скорее сентенции на некие житейские темы. Форма же ницшевского афоризма выделяется особо, афоризм Ницше под стать ницшеанству – ницшеанский, «ницшеанствующий».
 Д. Ф. Название книги «Сплошной ressentiment» и её подзаглавие «тенью странника» напрямую указывают на Ницше как на соавтора. Тема «Ницше» проходит красной нитью сквозь весь текст, а полемика с ним, обращение к нему составляют добрую половину повествования. Как это понимать: как отклик, как рецензию, как противопоставление, как магнит, как молот, как что? Ты нападаешь, пародируешь или смотришь со стороны? Д. Ф. Название книги «Сплошной ressentiment» и её подзаглавие «тенью странника» напрямую указывают на Ницше как на соавтора. Тема «Ницше» проходит красной нитью сквозь весь текст, а полемика с ним, обращение к нему составляют добрую половину повествования. Как это понимать: как отклик, как рецензию, как противопоставление, как магнит, как молот, как что? Ты нападаешь, пародируешь или смотришь со стороны?
А. Н. Ницше здесь не столько красная нить, сколько красная тряпка. А тема ressentiment’а, на мой взгляд, является квинтэссенцией философствования как такового. Любое философствование – это уруинивание предшественников, чтобы на руинах их «мысли» создать нечто новое (хотя в последнее время «принцип руин» отрицается как постмодернистский принцип – здесь мы имеем дело с уруиниванием самого «принципа руин»). Моей книгой заимствована доброжелательная форма, а не содержание и не пафос ницшевского философствования (всё ещё впереди?). В этом смысле книга ревнует к философии, к стилю философствования против Ницше, против его монополии на такой способ философствования. Так реактивно, так взрывоопасно Ницше писал только в своей «Воли к власти». Моя же манера больше деструктимонная, основанная на постулате о деструктивной этимологии слова.
Д. Ф. Давай сначала поговорим о книге, а затем вернёмся к Ницше. В твоём тексте огромное количество новояза. Он буквально наводнён выдуманными тобой словами и игрой с языком.
А. Н. Да, именно игра с языком, игра в язык, а не пресловутые языковые игры, которые общеприняты в философии, преобладают в книге. «Мой стиль – русский язык», поэтому я безответственен за своё словотворчество. К тому же это подспудная попытка переиграть известный принцип бритвы Оккама (запрет на умножение сущностей без необходимости), ведь нереализованные сущности как раз и умножают рессентимент, способствуют накапливанию злобы и мстительности и могут выливаться в нечто особое, что, вырвавшись на свободу, уже ничто не остановит – даже ничто. Я не хотел бы, чтобы философская мысль была ограничена не столько русским языком, сколько языком вообще.
Русский язык – это и мой дискурс философствования. Я не вижу себя вне русского языка. Это является причиной того, что я не изучаю иностранные языки, о чём, кстати, советовал тот же Ницше, говоря, что человек, изучающий иностранный язык, лишается стилистических красот своего родного языка. В истории были две великие нации, которые стилистически превзошли все остальные, – это греки и французы, и именно эти нации не изучали иностранные языки, а совершенствовали свой собственный. Поэтому Ницше и сам постоянно обращается в языке за помощью к грекам и французам, постоянно критикует немцев за то, что они так и не создали ничего по-настоящему стилистического. (К слову, Карл Шпиттелер впоследствии не нашёл у Ницше ничего, кроме стилистики. Апломб Ницше – это исключительно филологическая переоценка ценностей, воля к власти – в филологии.)
Д. Ф. А как насчёт твоего филологического прошлого?
А. Н. Я закончил Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (филологический факультет по специальности «русский язык и литература»). Сейчас получаю второе высшее образование по философии.
Д. Ф. От филологии к философии в своё время прошёл и Ницше.
А. Н. Эта аналогия с Ницше скорее не в мою пользу. Меня пугает сухость и чёрствость невесёлой науки, хотя кое-чего в ней я уже успел добиться. По филологии у меня вышло три учебных пособия:
1. Нилогов А. С. Система тестовых заданий по дисциплине «Историческая фонемология цепи славянских языков, связанных отношениями «предок – потомок», от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского»: Учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / Научный консультант и редактор Бурмистрович Ю. Я. – Абакан: Издательство Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова, 2003. – 216 с.
2. Языковеды мира: краткий биобиблиографический справочник-указатель / Автор-составитель А. С. Нилогов. – 1-е издание, намеренно недоисправленное и недоработанное. – Абакан: Издательство Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова, 2003. – 288 с.
3. Нилогов А. С. Сборник-задачник по «Слову о полку Игореве». – Абакан: Издательство Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова, 2004. – 224 с.: ил.
Меня всегда захватывала свобода философствования. «Сплошной ressentiment» – моя первая самодостаточная (по выражению Ф. И. Гиренка) работа по философии, которую я не столько писал, сколько записывал в течение года.
Д. Ф. В твоём тексте большое внимание уделено физиологии, телу, которое везде даже выделено большими буквами. Ты хочешь этим сказать, что вся философия подспудно диктуется телесными проявлениями? Тело диктует философию?
А. Н. Философия диктуется не столько ТЕЛЕСНЫМИ проявлениями, сколько сдерживанием ТЕЛА в пределах философии. Философия есть предел для ТЕЛА. ТЕЛО хочет жить и радоваться жизни, а философия не даёт ему полностью реализоваться. Говоря словами Ницше, настоящую жизнь заслуживает тот, кто всё время отрицает саму жизнь; и любому человеку в конце его жизни, перед смертью, открывается шанс такой жизни, который, к сожалению, больше виртуален. Но если Ницше призывает вернуться к ТЕЛУ, то я собираюсь придерживаться классической традиции – игнорирования ТЕЛА, аскетизма ТЕЛА, отчуждения ТЕЛА от человека и его философии. ТЕЛО – не союзник, а искуситель философии, за счёт трения с которым, за счёт преодоления которого и возможно её развитие. ТЕЛО должно быть принесено в жертву философии. ТЕЛО, ПОХОТЬ, УСТАЛОСТЬ (слова, пишущиеся заглавными буквами) – это злые боги, которым нужно постоянно приносить жертвоприношения.
Д. Ф. «Культура есть обретение архетипичности, втравленной в потентику ТЕЛА». Очень долго приходится вдумываться в такие обороты речи.
А. Н. Я ещё сам не научился читать свои собственные тексты и от этого страдаю сильнее, чем мои читатели, поскольку они это «читают» в меньшей степени. Мой текст – это поток сознания за год, причём не произвольный, а намеренно из себя выдавливаемый, – словесный гной философствования.
Д. Ф. А мог бы ты пояснить тему неадекватности и пустоты, которая постоянно присутствует в этом самовыдавливании?
А. Н. Я проповедую культ неадекватности. Не люблю адекватного поведения, а потому призываю к любым проявлениям, к свободе в сартровском понимании – к возможности отрицать что-то как данность, а не делать выбор между одним и/или другим.
Д. Ф. Вся неадекватность сводится к пошлому сексизму, к кручению языка вокруг биологических отправлений человека (мочеиспускание, испражнение, секс во всех формах), чей диапазон простирается от высокопарности до мата..?
А. Н. Мат (обсценная лексика) в философию вводится не вульгарно, а стилистически. У меня же можно найти и первое матерщинное философское ругательство.
Д. Ф. А ты понимаешь, что культурно-настроенные люди должны твою книжку сразу выбрасывать на помойку?
А. Н. Больше всего я страшусь равнодушия. Смерть читателя меня не интересует. Черновик чтения – на совести у тех, кого до сих пор гложет червь сомнения.
Д. Ф. Может быть, плотность сексуальных отправлений, присутствующая в твоём тексте, ясно говорит читателям о твоей молодости и соответствующем ей спермотоксикозе?
А. Н. Спермоинтоксикозе!.. Без стереотипов дискриминации тут, конечно же, не обойтись. Без комментариев? По ходу разговора мы к этому ещё вернёмся? Уточнишь вопрос?
Д. Ф. Является ли это формой эпатажа, или данью постмодернистской моде на пошлость, или особым стилем, или квинтэссенцией всего содержания – единственно имманентной формой выражения раз-адекватности и свободы, или ещё чем-то?
А. Н. Меняемся местами. Интервью наоборот: писатель задаёт вопросы читателю.
Д. Ф. Но только на время.
А. Н. Неужели книга пошлит?
Д. Ф. Да, в книге создана атмосфера пошлости языка, какой-то экстремальной похабщины. Сортиры перемешаны с Сартром, а неподмывающиеся бабёнки с фундаментальными вопросами философии. Каша очень несъедобная.
А. Н. Таково моё философское мировоззрение. В книге должно быть интересным не то, какой человек её написал, а то, какое место в ней отведено языковой свободе – лингвистической некомпетентности её создателя. Я был сориентирован именно на это, а не на сексуальные предпочтения, которыми сегодня почти никого не удивишь.
Д. Ф. Не является ли такая форма выражения последней степенью декаданса и вырождения философии и её языка? Не является ли твоей скрытой целью доведение декаданса до того последнего уровня, с которого открывается горизонт распада самого декаданса?
А. Н. Возможно, однако я не вполне уверен, что ниже некуда. Пока слова не упираются в вычитательные смыслы, когда любое прибавление только вычитает, можно делать всё, что угодно. Этимология разрушения слова – это попытка сочетать его с такими словами, которые подрывали бы его внутреннюю форму, осуществляли его самораспад. Таким образом я веду борьбу против дискурсивной формы философствования, отстаиваю философию вне дискурса. Подспудная задача книги – полное разрушение дискурса через поток сознания.
Д. Ф. Книгу читать не просто трудно, а невозможно. Мне понадобилось огромное усилие воли для того, чтобы в неё вникнуть. Хотя к концу чтения я получил странное удовольствие от прохождения по тексту, в котором язык буквально разваливается на глазах.
А. Н. Философия – это самый искушённый, самый изощрённый дискурс насилия. По мне самому в своё время прошлись и Ницше, и Сартр, и Хайдеггер. Та степень терпения и кротости, которую я в себе выработал, автоматически отразилась на книге – отмщение за собственный читательский опыт.
Д. Ф. Таким образом, твой стиль становится твоим содержанием, поскольку в книге нет никаких позитивных утверждений. Твой поток сознания – это просто инструмент разрушения? Он только разрушает язык и философский дискурс, основанный на нём, или пытается ещё и что-то утверждать?
А. Н. Передо мной – девственный текст деструктивного типа, центральной темой которого является проблема(тизация) небытия. Когда имеешь дело с небытием (или того хуже – с влечением к небытию, с влечением к концу), трудно писать как-то иначе. Тут действует обратная воля к власти. Если ты боишься отказаться от воли к власти и вынужден о ней постоянно грезить – рано или поздно понимаешь, что агентом этой воли к власти выступает именно ТЕЛО, стремящееся расширить себя во времени и пространстве.
 Д. Ф. Тогда очень странно звучат предисловия-эпиграфы к книге, взятые из того же Ницше, причём из самых его сильных мест. Например, то место, где Ницше говорит о философах будущего как о великих искусителях. Такова новая философия? Таково сегодняшнее искушение? Д. Ф. Тогда очень странно звучат предисловия-эпиграфы к книге, взятые из того же Ницше, причём из самых его сильных мест. Например, то место, где Ницше говорит о философах будущего как о великих искусителях. Такова новая философия? Таково сегодняшнее искушение?
А. Н. Нет, таково то общее место, которое мне под силу смастерить из Ницше? Среди философов очень мало филологов, мало знатоков языка, а тем более стилистов. Моя философия – это восполнение подлинной лингвистической некомпетентности в философии. Я могу даже говорить о лингвистической МЕТАФИЗИКЕ – прояснении не столько языка философии, сколько философское осмысление общей теории языка (языковости) и языка будущего – футурояза (метод лингвистической футурохронии).
Д. Ф. Так у тебя появляется некое новое ощущение философии?
А. Н. Нет, это утопическая задача, особенно для русской философии. Задача-минимум – создание собственно философских текстов, впору браться за монографию по исследованию современной русской философии. Когда западных постмодернистов от философии обвиняют за бесконечное количество симулякрных текстов, надо понимать, что в России никакого такого «количества» нет. Поэтому надо философствовать так, как не философствовали на Западе, но только на русском языке. Ещё раз: РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ – ЭТО ФИЛОСОФИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Д. Ф. То есть ты хочешь продолжать в том же духе и формате?
А. Н. Я не оптимист. Чистоплотность – прежде всего!
Д. Ф. Мне трудно представить себе – что дальше? В конце концов, человек попадает в некий особый транс, который возникает из-за того, что его лишили возможности понимать и воспринимать свой собственный язык.
А. Н. Это такой стиль философствования, который нельзя читать не только вслух, но и про себя. Его можно читать только тогда, когда он записывается.
Д. Ф. Зачем же тогда публиковать одноразовость?
А. Н. Гипнотизирование текстом носит сверхтворческий характер, потому что, когда вчитываешься, хочется продолжать писать прямо там, где читаешь. Философия рождается здесь и сейчас, здесь и сейчас воюет против языка.
Д. Ф. У тебя нет никакой связи со входящим сейчас в моду нейро-лингвистическим программированием? Несколько мест в твоей книге содержат прямые соответствия методике НЛП.
А. Н. Нет. Я не собираюсь механически переманивать методику НЛП в философию. В моей книге рождается философия, которая борется против языка. И хотя эта задача достаточно абсурдна, она всё-таки необходима. Я опасаюсь не столько тех мыслителей, которые занимаются философией, сколько тех, которые занимаются определиванием, ограничением философии, когда, согласно Канту, разум начинает довлеть над опытом. Для них уже всё написано и продумано и ничего, кроме поверхностных интерпретаций, нам от них не останется. Выдаётся одно: вышибать клин клином – бороться против языка языковыми же средствами, поскольку именно в языке сосредоточена вся сущность человека и весь его потенциал.
Д. Ф. Но кроме задачи разрушения прежнего разве не стоит всегда задача созидания новых ценностей? У того же Ницше это заявляется и реализуется в полной мере. Разве могут нигилизм и декаданс быть ценностями по себе?
А. Н. Могут, если они доведены до логического конца. О моей книге, кстати, многие говорят как о самодостаточной. И то, что книга больше ничего не требует, на мой взгляд, очень хороший результат. Но на деле всё ещё гораздо сложнее – это текст-автовампир.
Д. Ф. Ничего удивительного, ведь нигилизм – это то, что вытягивает и поглощает любую энергию. А вот созидание энергии есть дело позитивных ценностей. Говоря словами Ницше, подлинные философы всегда повелители и законодатели, они простирают свою творческую волю в будущее, их познавание есть созидание, их воля к истине есть воля к власти. И наоборот, все «заражённые усталостью инстинкта» всегда работают на ничто, на то, чтобы отбирать чужую энергию и жить за счёт неё.
А. Н. Стоит отнять энергию у всех любителей философии Ницше, чтобы исправить то, что уже исправить невозможно. Нужно возрождаться к жизни через бунт против языка, бунт против предрассудков и морали, в том числе и ницшеанских. Повторюсь: я хочу превратить Ницше в общее место, затёртое до дыр, отсюда – столь частое его цитирование. Не за каждое слово в своей книге я несу ответственность, отчего сам многого не(до)понимаю.
Д. Ф. Ницше часто ставит знак равенства между усталостью и серьёзностью. Им он противопоставляет смех и избыток как условия будущности. Ты писал книгу от избытка или из рессентимента?
А. Н. Писал, пока писалось, а главное – пока читалось. Подручными средствами, всухомятку, – вследствие огромного скарба нереализованных возможностей. По мере сил стараюсь над тем, чтобы глубины своего одиночества расширить до границ личного опыта каждого.
Д. Ф. Чтобы все устали и, прочитав эту книгу, просто валились с ног?
А. Н. Если читать её на ночь – не заснёшь, будет мучить бессонница. Это странная, нервная УСТАЛОСТЬ. Книга рассчитана на философов с лингвистическим чутьём, с хорошим чувством языка, чтобы опознавать те каноны, которые нарушены гимном апофеозу лингвистической беспочвенности. Человек, не знакомый с лингвистикой, кроме МЕТАФОР и игры в слова, ничего другого там не найдёт. Кроме того, люди не склонны идти в чём-либо до конца, и в данном случае до такого конца, когда начинает действовать вычитательная семантика. Например, чтобы попасть в поле тавтологии, обычно достаточно двух одинаковых слов подряд, а дальше начинает подташнивать. Опыт прочтения пяти тысяч трёхсот семидесяти двух употреблённых кряду слов «философия» вряд ли у кого-то имеется, но уже в моей будущей книге будут обыгрываться аналогичные случаи вычитательных смыслов. Такой опыт прочтения уникален, поскольку пишущий или набирающий на компьютере все эти слова, никогда не находит времени на то, чтобы прочесть текст целиком. Получается, что ни писатель, ни читатель не прочитывают книгу полностью, а просто пробегаются по ней диагональным взглядом.
Д. Ф. Так называемая смерть автора?
А. Н. То, что автор отчуждается в книгу, и то, что книга живёт своей жизнью, – давно общее место. Все подобные книги будут однажды стоять на очереди у костра в алфавитном порядке. Дожить до аллергии на пыль с собственных книг мало кому удаётся.
Д. Ф. Ницше: «Остаётся один вид деятельности, который охотно представляют в качестве совершенно бесцельного, а именно игра и склонности, которые сюда относятся. Игра противополагает себя духу серьёзности и кажется установкой, не пригодной к овладению чем-либо; она отнимает у реальности её реальность». Твоя игра с языком тоже отнимает у него его реальность. Книга была написана по внутренней необходимости, в сугубо сознательной игре или игре как способе пребывания бытия в избытке?
А. Н. Всё вместе. Это очищение сознания, выписывание его для того, чтобы мысли не держались в голове, не загнаивались, – законсервировать свои мысли в тексте, чтобы иметь возможность обращаться к ним постоянно и узнавать себя таким, каким ты был в то весёленькое время (например, сейчас вся работа сосредоточена вокруг проблемы АНТИЯЗЫКА).
Д. Ф. Писать как способ избавиться от собственных мыслей… Писательству как таковому тобой даётся отрицательная оценка. Раз кто-то сел писать – значит он уже не очень хорошо чувствует себя в жизни. И в этом ты не делаешь исключения и для себя.
А. Н. Да, конечно.
 Д. Ф. Но разве такой книгой ты не хочешь прекратить своё писательство? Разве ты не хочешь ею послать на три буквы всех философов и писателей? Д. Ф. Но разве такой книгой ты не хочешь прекратить своё писательство? Разве ты не хочешь ею послать на три буквы всех философов и писателей?
А. Н. Послать надо так, чтобы услышали, а написать так, чтобы прочитали. В данном случае боюсь не столько непонимания, сколько понимания. Когда большинство из прочитавших книгу говорит мне о том, что читать её невозможно, это хороший знак – я на верном пути.
Д. Ф. Да, к твоему языку очень трудно привыкнуть. Как к языку классической философии привыкаешь только после нескольких её томов, так и тут нужно привыкнуть к сверхлексике постмодернизма, в которой он сам выплёскивается из собственных же берегов и заливает восприятие чем-то невоспринимаемым. Ведь постмодернизм, как известно, не открывает новых явлений и вещей, он их просто выдумывает. И весь этот поток новых терминов (различАние, аберрация, симулякр, трансгрессия, логоцентризм и т. д.), вошедших в новые философские словари и переиначивающих привычные философские понятия, есть не что иное, как философские фантазии их авторов. А сам-то ты хорошо разбираешься во всех этих новых терминологиях или лепишь их у себя в тексте просто так?
А. Н. Мне кажется, что труднее лепить словосочетания, не понимая, чем понимая. Пять лет каторги на филологическом факультете, который мы прозвали «гадюшником филологического порока», выработали у меня очень бережное отношение к языку.
Д. Ф. Если проводить параллели к литературе, то бросается в глаза тождественность твоего текста с текстами Владимира Сорокина. Та же самая девальвация связей между словосочетаниями и актуализация сексуальных отправлений и соответствующих им мотивов языка (ведь раньше в философии присутствовало негласное табу на психоаналитический дискурс). Такова методология «нового слова» – разрушение всяческих ожиданий, разрушение всех традиций?
А. Н. Любой созданный текст есть сам по себе некая традиция, но я делаю попытку невозможности создания на основе моего текста некоей новой традиции, – отвергаю традицию и как таковую, и как таковую. Это непросто и, видимо, мне придётся рано или поздно смириться с тем, что какое-то место в этом «разрушении» я всё же займу.
Д. Ф. То есть ты ощущаешь себя в некотором смысле великим творцом? По Ницше, «Быть великим – значит давать направление». Ты даёшь направление или ты не согласен с такой формулировкой Ницше?
А. Н. Ницше нужно прочитывать до конца. Быть великим – это давать направление, но при этом не быть систематическим философом. Нужно создавать не систему, а зачатки новых философий, которые сам философ не в состоянии развить, но желает, чтобы их подхватили и продолжили специализирующиеся философы.
Д. Ф. А Ницше можно отнести к таким несистематическим философам? Не Ницше ли предтеча постмодернизма?
А. Н. Да, так считается, хотя истоки постмодернизма тянутся ещё дальше – в античность. Такое направление мысли существовало всегда, но наибольшее своё развитие получило лишь в недавнее время. В истории философии всегда существуют неявно обнаруживаемые традиции, которые впоследствии развиваются в более крупные направления. Ницше подготовил постмодернизм, но авторских прав на постмодернизм у него, естественно, нет.
Д. Ф. Не стоит упускать очевидное: постмодернизм – это кризис, призванный доразрушить всё здание классической философии до основания, девальвировать её по факту. Искать в постмодернизме истоки будущего можно лишь в негативном смысле. До какой степени деструктивная тенденция может продолжаться, чтобы родилось нечто настолько новое, что снимет собой всё это нигилистическое и пессимистическое направление мысли? Чувствуешь ли ты себя эдаким мыслителем-искусителем (по Ницше)?
А. Н. Это было предопределено уже моим рождением. И имя, и характер, и знак зодиака – все вместе говорят именно об этом. Например, моя фамилия библиографическим шифром записывается тремя шестерками – 666 (по двум первым слогам), – отпадает необходимость в псевдониме. Постмодернистская критика логоцентризма логоцентристскими же терминами породила такое множество перформативных парадоксов (самоизобличающихся высказываний), какого раньше в философии никогда не было. Это, несомненно, тупик, но тупик – презумпционный.
Д. Ф. Твоё письмо по настроению порою поражает и веселит: «Писать-как-на-фуршете-мазками-аппетита», «(Непревзойдённое: из ненаписанного.)». Можно сказать, что книга написана, писалась – «по настроению», и всё же в ней выдержано некое единое настроение…
А. Н. Книга посвящена небытию и попытке дать ему исчерпывающее определение. В ней дано 231 определение небытия (соответствующая глава), некоторые – рассыпаны по всей книге, а 469 дефиниций по-прежнему ждут-с.
Д. Ф. В книге часто звучит концепция «АКТУАЛЬНОГО БУДУЩЕГО», которое также текстуально выделено. Что это такое? Несколько месяцев, недель, дней, часов (последнее – для людей типа алкоголиков)?
А. Н. Меня всегда интересовал процесс постижения читателем смысла написанного, как он пытается понять какое-либо сочетание слов. Наверняка, берёт словарь, выписывает значения слов… Моё «АКТУАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ» – это то будущее, которое лежит вне реализации, которым живёшь в статусе его нереализованности. Это то нереализованное будущее, которое оказывает на тебя воздействие. Ты знаешь, что его никогда не будет, и этим осознанием подменяешь его в жизни.
Д. Ф. А что такое твоя «спонтанность»? Что означает у тебя «успонтанниться»?
А. Н. Моя спонтанность ближе всего к неадекватности. Это попытка ускользнуть от всякой мотивации, от всякой предрешённости поведения. Спонтанность – это нахождение в состоянии хаоса, неупорядоченности. Успонтанниться – прийти в последовательное состояние хаоса. Это нечто противоположное глаголу «остепениться» (в том числе и во втором смысле – как указанию на получение всех возможных степеней, например, научных).
Д. Ф. «… изъять репрессивную заданность на прогрессивное развитие, на непременную смену формально-хронологических эпох». Плюс массив беспримерного новояза… Не есть ли это самоактуализирующаяся потребность в языке? Может быть, это некий опережающий язык, то есть язык, отражающий мысли, опережающие существующий язык?
А. Н. Да, это так. Поскольку в философии очень распространён принцип бритвы Оккама (на заметку: противоположный принцип – щетина Эпштейна), не позволяющий умножать сущности без необходимости. Но когда нереализованных сущностей накапливается слишком много, начинает действовать диалектический закон перехода количества в качество, и эти сущности выливаются в нечто подобное. Они, говоря другими словами, начинают мстить из своей нереализованности, и… начинается философия. Возможно, это поле для новой жизни языка, а возможно – способ его отступления, способ стирания следов бесполезной мысли, которыми язык засорён, чтобы мысль дальше уже не пробралась.
Д. Ф. Создание текстов – не только ремесло, которым могут жить профессионалы или дилетанты, но ещё и эстетическое увлечение, приносящее вполне определённое удовольствие. Поэзия, литература, философия – все они создают тексты удовольствия.
А. Н. Философия – это особый вид литературы, хотя мне ближе всего не эссеистическая, а традиционная (систематическая) форма философствования. С удовольствием у меня не всё наоборот. Вопрос о счастье – вовсе не первостепенный. Человек получает удовольствие только тогда, когда закрывает мою книгу.
Д. Ф. То есть ты хочешь воспитывать новое удовольствие – удовольствие от отказа от чтения. Это интересно.
А. Н. Тебе, видимо, не знакома болезнь большинства филологов. Эта болезнь заключается в том, что порой нужно насильно заставлять себя читать текст, все слова которого видятся насквозь. Если бы человек мог видеть всё насквозь – вплоть до молекул и атомов, – он не мог бы видеть ничего вообще, и только ограничение в разрешающей способности зрения позволяет человеку читать. Часто не хватает слов для обыкновенного разговора, отчего становишься косноязычным, поскольку все они проговариваются внутренней речью (на иждивении со словарём ситуация, как правило, усугубляется).
Д. Ф. Ты пишешь: «УСТАТЬ от Сартра». А ты бы получил удовольствие, если бы тебе сказали, что «УСТАЛИ от Нилогова»? Ты хочешь, чтобы люди, читая твою книжку, вовсе отучились читать?
А. Н. Надо обратить внимание на то, что под УСТАЛОСТЬЮ я понимаю просветлённую УСТАЛОСТЬ, – такой момент, когда ты заполнил свою пустоту каким-то светом, и эта заполненность больше не требует ничего другого, она самодостаточна. УСТАЛОСТЬ приобретает положительную окраску только тогда, когда она просветлена именно таким образом. Всё, что способно выразиться, не противоречит языку. Нельзя высказать ложь. Всё, что высказывается, не является ложью. Предоставляя возможность высказаться, мы осуществляем в языке нечто действительное. А то, что остаётся за пределами книги, – неподвластно в том числе и языку.
Д. Ф. А нельзя ли назвать твой стиль филологическим абсурдом, ибо вокруг каждого слова ты ищешь или создаёшь некое поле абсурда. И этот абсурд в итоге взрывается так, что просто уничтожает язык.
А. Н. Абсурд – это другое имя барьера стереотипа. Когда человек пытается зайти за какой-либо барьер или преодолеть стереотип, он попадает в поле нехоженых троп, нехоженых возможностей и тем самым опутывает себя этой атмосферой абсурда. Когда ничего не знакомо, когда всё ново, – тогда и возникает абсурд.
Д. Ф. У меня было ощущение, что все маски, которые приходят к тебе случайным образом, ты насильно засовываешь в текст.
А. Н. Да, только маски эти не искусственные, а естественные. И я не знаю – какая из них настоящая. У Леца есть потрясающий афоризм: «Когда хамелеон у власти, цвета меняют окружение». У меня есть похожий образ, называемый Пигмалеон. Человек влюбляется в свою способность быть хамелеоном; некоторые предпочитают влюбляться во влюблённого Пигмалиона/Пигмалеона.
Д. Ф. За всем этим нагнетается марево деконструкции, нигилизма, небытия. Можно ли сказать, что за этой атмосферой в метафизическом смысле стоит попытка осознания/проникновения в такую область?
А. Н. Да, это попытка дать определение тому, чего нет. Языка не хватает как раз тогда, когда мыслишь о том, чего нет.
Д. Ф. У тебя есть твои личные подступы к небытию? Что лично для тебя означает этот конструкт, что он в тебе движет?
А. Н. Это попытка показать языку его место. Языку очень трудно оперировать тем, чего нет, но иногда ему это всё же удаётся. Когда ему это удаётся – ты находишься с языком на равных, поскольку именно ты натаскиваешь его на те области, на которые раньше его никто не натаскивал, а сам он не отваживался туда ступать. Это своеобразная охота за небытием, в которой язык используется как натаскиваемая борзая.
Д. Ф. Удачной ли бывает охота? Зверя-то чувствуешь?
А. Н. Потихоньку продвигается, языка всё ещё хватает. Зверя чувствую, но себя на его месте ещё лучше.
Д. Ф. Уходя от аллегорий: что такое «небытиё» для тебя лично? Дай своё сводное определение.
А. Н. В артикуляции «небытиё» – это моё. Например, В. В. Бибихин, переводя один из оттенков данного понятия у Хайдеггера, использовал именно такую артикуляцию («бытиё»). Буквально небытие есть то, чего нет, никогда не было и не будет. Проблема небытия – чисто лингвистическая (шире – лексикографическая) проблема, – для составления дефиниций заимствуются почти все ресурсы языка. Чем больше ты искушён в языке, тем больше тебе удастся.
Судьба слова – это звучная немота. Слово постоянно кричит о том, чего оно не может выразить. Слово – это тот костыль, на который человек опирается и с помощью которого пытается придать своему отсутствию некое подобие присутствия. Слово – это присутствие отсутствия. Ибо присутствие мыслей в ином виде, в виде какого-то образа или вещи, просто невозможно. То, с чем имеет дело конкретный живой человек, – это бытие. А небытие порождает только сознающее существо, которое перестало быть только ощущающим. При прекращении ощущений человек сталкивается с небытием и парадоксальным образом именно тогда ему открывается подлинное бытие. Поэтому перед проблематизацией бытия необходимо поставить вопрос о небытии. Глава моей книги так и называется «Довесок о небытии: пролегомены к «Бытию и Времени» М. Хайдеггера». Может быть, доживу до того времени, когда мои пролегомены будут предварять текст Хайдеггера. У меня была идея написать в пику Хайдеггеру «Небытие и Бремя», где Бремя выступало бы темпоральным соответствием познанию отсутствия. Очень рискованный шаг – отобрать у философии проблему небытия и перевести её в лингвистическую плоскость, – в плоскость лингвософствования. Весь опыт Хайдеггера посвящён лингвистике философии. Моя книга – прецедент такой лингвистике на русской почве. Если хотите – лингвистическая МЕТАФИЗИКА.
Д. Ф. Сама дорога из филологии в философию предполагает такого рода мировоззрение, когда филологические концепции и видение языка начинают перенастраиваться на философскую проблематику.
А. Н. Дорога в обратную сторону, по-моему, была бы вредна обоим. А вот в указанном направлении она естественна, поскольку имеешь дело с теми же текстами.
Д. Ф. «Ницше на Хайдеггере. Хайдеггер под Ницше»… Что это за сентенция?
А. Н. Просто так книги лежали у меня на столе. И не только…
Д. Ф. Теперь я предлагаю вернуться к Ницше, тем более что он является в ней одной из главных маскарадных фигур: «Клиническое завещание “Вечное «до востребования»”», «экстремист гениальности со скромным человечьим именем Фридриха Ницше», «отчаявшийся канатоходец», «наисверхчеловечнейший, во всём промозглый и беспорядочно злой». Сформулируй на привычном языке своё отношение к Ницше.
А. Н. «Ницше есть моё отхожее место». Это то место, куда можно отойти, чтобы спрятаться, своего рода духовный туалет. Хотя в последнее время я пересматриваю своё отношение к Ницше, – не хочу ограничивать себя только его философией, и не понимаю тебя и тех людей, которые живут исключительно Ницше, не видят дальше его носа. Сам Ницше на протяжении всей своей жизни доказывал обратное, поссорившись сначала с Шопенгауэром, потом с Вагнером, затем с самой философией и, наконец, с самим собой, сойдя с ума, чтобы не стать при жизни ни ницшеанцем, ни антиницшеанцем.
Д. Ф. Думаю, что ты бы сказал, что не надо быть никем?
А. Н. Да, надо быть абсолютным Ничто, или Собой.
Д. Ф. Я спрашивал о Ницше, а не о ницшеанцах…
А. Н. Мне нравится ницшевская манера философствовать, его пафос обращения с философским языком, его психологические подоплёки, его парадоксы, форма афоризма. Но продолжать философствовать в том же духе – занятие бесперспективное, для этого нет ни времени, ни соответствующего классического образования.
Д. Ф. Можно ли рассматривать твою книгу как критику Ницше?
А. Н. Да, но скорее это попытка изобрести метод для критики. Мне кажется, что я его изобрёл. Это не столько критика а-ля развенчание Ницше, сколько разочаровывание персоны Ницше и его философии в его же собственных прозрениях на будущее и на тех людей, которые наконец-то его прочтут, поймут и «всё встанет на свои места». Разочаровывание Ницше в его «слишком человеческих» надеждах – такой подход наиболее адекватен самому Ницше. В этом я вижу исполнение его завещания.
Д. Ф. Ницше хотел обнести свои тексты некоей невидимой оградой, чтобы в них однажды не ворвались свиньи.
А. Н. Я не думаю, что этой мыслью закончилось его преодоление «слишком человеческого».
Д. Ф. Но разве ты – не такая свинья, которая может ворваться в любой огород и начать там «мочить» всё, что попалось на пути, без разбора?
А. Н. Я же сказал, что нужно определиться с методом. Не думаю, что свинья, ворвавшись в какой-нибудь загон, попыталась бы кого-то разочаровать. Трудно представить себе свинью, которая бы именно разочаровывала.
Д. Ф. Я хотел сказать, что для деструктивного метода не имеет значения – что разрушать. С этим методом можно ворваться к любому автору в тексты и, ёрничая, разваливать их по кусочкам и целиком. Сама по себе такая миссия тебя не смущает?
А. Н. Книги живут своей собственной жизнью, и плевки в её сторону чаще всего просто не долетают до автора.
Д. Ф. Ещё у меня было ощущение, что ты примеряешь собственный костюм на Ницше и подозреваешь его в своих собственных тенденциях или настроениях. Написанное Ницше для тебя есть такое же отвлечённое и умозрительное, то есть созданное без всякой веры в излагаемое, как и для тебя твоя собственная книга.
А. Н. Ницше интересен только на период чтения его произведений, которые захватывают тебя в контекстуальный плен. Когда же этого нет – нет и Ницше. Зачем вообще изучать его в университетах? Что нового он привнёс в философию? Какое право он имеет нас поучать? Достаточно ясно, что к Ницше может приобщиться лишь определённая категория людей. Необходима как достаточная критика ницшеанства, так и достаточная критика его последователей, тех самых читателей из будущего, которые якобы поймут его и будут проповедовать ницшеанские идеи в жизнь.
Д. Ф. Ты не пропускаешь ни одной темы – «Почему-бы-и-нет-предтечей-фашизма?».
А. Н. Этот новый стереотип (обратный стереотип – «всё же не предтеча») меня тоже напрягает. Человек имеет право на стереотипы, которые успели о нём сложиться. Оскорбительно, что Ницше может быть или нигде, или повсюду. По большому счёту его нужно вообще подвергнуть забвению, чтобы вместе с ним для человечества исчезли и те пределы философствования, которые были им обозначены, особенно в виде преодоления человеческого, – чтобы каждому была открыта дорога философствования с чистого листа. И хотя «с чистого листа» вряд ли получится, однако есть надежда на уничтожение всего прошлого, – на то, что удастся научиться писать заново, храня в памяти всё то, что было создано до тебя.
Д. Ф. «Ницшеанство – mauvais ton par excellence». А ты действительно видишь где-то некое движение в виде ницшеанства? Неужели, ты встречал ницшеанцев в своей жизни?
А. Н. Ницшеанство – это скорее движение, которое сформировалось в истории философии XX века. Ницшеанцы – это такие читатели Ницше (и я в том числе), которые начинают возмущаться против действительности, когда им открывают на неё глаза, – начинают испытывать чувство положительного, благородного рессентимента против тех, кто до поры до времени держал их глаза закрытыми. Для меня ницшеанство – это рессентимент тех людей, которые, прочитав тексты Ницше, обрели новое понимание свободы, открыв мир для себя заново.
Д. Ф. Ницшеанцы – люди рессентимента, не способные к положительной нравственности..? Что за ограниченный взгляд?
А. Н. Я побаиваюсь ницшеанцев в их практической жизни. Я за ницшеанство в философии, за ту манеру философствования, которую заложил Ницше.
Д. Ф. Ты нутром не переносишь аристократов духа?
А. Н. Нет, я боюсь попасть в зависимость от их окружения, после общения с которым нужно будет часто подмываться.
Д. Ф. Потеют слабые, которым неуютно или неудобно, которым страшно...
А. Н. Когда человек находится наедине с самим собой, он никогда не потеет (и не только не потеет…), потому что никогда не находится в дискомфорте с самим собой. Когда же ему приходится рассеиваться на окружающих, он начинает отчуждаться от самого себя, что сопровождается намеренной физиологией. Так что в моём контексте слово «подмыться» имеет значение «побыть одному, очиститься». Сам Ницше показал нам образ философа-ницшеанца, который становится ницшеанцем только во время письма, философствования, а в жизни может быть полным неудачником, совершенно лишённым какой-то приспособленности к жизни. Ницшеанская манера философствования приветствуется, практическое ницшеанство, как правило, не видит дальше пресловутого фашизма. Ницше и фашизм – вещи легко совместимые, нежели наоборот. Я не отвергаю Ницше вообще, я отвергаю его в связи с его предательством своего пророческого дара, в связи с его надеждой на будущие поколения, которые являются таковыми лишь потому, что вечные современники Ницше есть вечные «маленькие люди». Гениальность Ницше заключалась в его даре предвидения истории на несколько столетий вперёд, однако в своих будущих потомках он так и не разглядел своих собственных современников.
Д. Ф. Ты не веришь в возможность качественной трансформации человеческого бытия? Не веришь в формулу, что «есть жизнь высокая, где не пьют со мной из одного колодца погонщики верблюдов»?
А. Н. Высшая жизнь – в объединении с людьми, а не в разъединении с ними.
Д. Ф. Тут попахивает коллективизмом…
А. Н. Мой коллективизм – это «единство вопреки многообразию» (по Франклу).
Д. Ф. Так есть ли высшая жизнь? Преодолеваем ли рессентимент?
А. Н. В философии – нет. Философия – это сплошной рессентимент. Кроме того, рессентимент должен быть неискореним, чтобы каждый человек имел возможность совершенствоваться. Я не признаю людей, свободных от чувства рессентимента, а признаю сам рессентимент движущей силой человека. Индивид, полностью свободный от чувства рессентимента, называется Богом, а философия есть не что иное, как попытка стать Богом, и этой попытке должна быть посвящена вся жизнь.
Д. Ф. Если встать на позиции Ницше, чётко разграничившего мораль господ и мораль рабов, то на какой стороне ты?
А. Н. Я на стороне той разграничительной черты, которая проводит различия, – в очень выгодной (мета)позиции. Глядя отсюда, я могу подсказать, что мне такое разграничение не нравится.
Д. Ф. Из этого легко сделать вывод о твоём реальном местоположении в этих координатах: ты стоишь на гуманистических, коллективистских, левых, демократических позициях.
А. Н. Я стою на тех позициях, которые трудно помыслить. Двумя словами, на непозитивистских.
Д. Ф. Конечно. Я не ошибусь, если предположу, что для тебя совершенно естественно отрицать и иерархию (мира, общества, организма и т. д.).
А. Н. Да, я против перенесения любой градации командными методами в реальную жизнь. Иерархия не несёт в себе никакой ценности, так… пустое построение.
Д. Ф. А ты никогда не замечал, что такими взглядами уже давно помечена именно низшая порода человека, вся эта презренная когорта декаданса и умственного нигилизма? Ты никогда не задумывался над тем, что ты воплощаешь собой то самое падение человеческого уровня как такового до того самого «последнего человека», о котором Ницше и говорил? Может ты и есть та самая человеческая мразь, которая всё разрушает, разлагает и хочет превратить в Ничто? Уничтожение всех ценностей – таков единственный путь к утверждению твоей собственной ценности ничтожества?
А. Н. Я не стесняюсь быть ни низким, ни высоким. Общаясь с ницшеанцами, я не желаю быть сопричастным с ними, испытывать те же самые чувства, что и они, – именно из-за того, что очень часто приходится ревновать их к Ницше.
Д. Ф. «Заратустра-вдовец». Что это такое?
А. Н. Заратустра – это сам Ницше, который отважился стать ницшеанцем в жизни: ушёл в горы, в пещеру, отказался от письма, чтобы на практике воплотить собственный образ сверхчеловека, – не столько образ сверхчеловека, сколько подступы к нему. «Так говорил Заратустра» – моя самая любимая книга у Ницше. Считаю, что она должна занимать центральное место в книжном шкафу любого философа.
Д. Ф. Так тебе симпатичен Заратустра как литературный персонаж?
А. Н. Да.
Д. Ф. Снова тебя цитирую: «Не повторить ошибки Брандеса: за-шестовская переоценка Ницше <...>».
А. Н. Мне непонятен тот восторг Ницше, который связан с первыми признаками Ницше-лихорадки. Ницше реагировал на это слишком по-человечески. Его учитель Шопенгауэр занимал более стоическую позицию. Непонятно, что же ницшеанцы ценят в Ницше, если он сам был «лишь человеком»?
Д. Ф. Они ценят тексты и того «лишь человека», который смог их создать. Ницше, безусловно, отнюдь не образец своей философии. А вот что ты вкладывал в такое выражение, как «Ницшеанствовал: (от Логоса к Венцу)»?
А. Н. Может быть, то, что Ницше двигался от власти дискурса к власти аристократизма духа? Время от времени я сам ницшеанствую в этом же «духе».
Д. Ф. «Философия Ницше предельно внетопонимична; место, которого нет, должно отсылать к заведомо насущному. Весь Ницше есть одно больное мыслящее ТЕЛО, то отхожее место, куда можно отойти, чтобы спрятаться».
А. Н. ТЕЛО всегда выполняет всю грязную работу, а мысль приходит на всё готовенькое. Этот результат – ницшеанствование в образе ницшеанца.
Д. Ф. Ницшевское сверходиночество…
А. Н. У Ницше есть известная фраза о том, что нельзя быть абсолютно одиноким, вас всегда двое – ты и твоё одиночество. Сверходиночество – подлинное одиночестве (уединение, уединённость – по Розанову, единочество – по Гиренку), которое существует в тебе не за счёт других, их примера, а за счёт твоей внутренней возможности их не иметь. «Инстинкт духовного самосохранения» (Куклярский), духовный гомеостаз…
Д. Ф. Как ты оцениваешь основные философские концепции Ницше (волю к власти, вечное возвращение, сверхчеловек и другие): как метафизические выдумки, не имеющие отношения к реальности, или как наполненные смыслом достижения мысли и духа?
А. Н. Скорее второе?.. Больше всего меня заинтересовала категория «рессентимента». Концепция вечного возвращения заставила язык философии обнаружить такие провалы в понимании, которые я до сих пор не смог преодолеть. Что касается воли к власти, то я знаю более радикальную концепцию – влечение к концу. Это потребность избыть свою тему, уже появившись на свет, – совершенно невозможное влечение.
Д. Ф. И звучит она как настоящий апофеоз декаданса.
А. Н. Само бытие изначально опаздывает к влечению к концу (даже – к термину!). Появившееся раз – невозможно устранить. Можно не писать книги, не оставить никакого следа в истории, никаких потомков – и всё же неизбывно пребывать в бытии некогда состоявшейся фактичностью.
Д. Ф. Это влечение к смерти, к танатосу? Или глубже – стремление стереть следы своего пребывания в бытии?
А. Н. Да, ты назвал это. Это возвращение и стирание следов своего существования. И это стремление, как мне кажется, возможно только в языке, так как в физической реальности оно внепрецедентно.
Д. Ф. Это и есть чисто языковая выдумка. Точно так же ты относишься и к воле к власти?
А. Н. Не хочу ограничивать себя волей к власти. Я рассматриваю человека с позиций как его возможности, так и невозможности стремления к власти. В этом смысле стремление к концу – это концепция, прямо противоположная воли к власти, – концепция, стремящаяся стереть следы своего существования, включая сам процесс стирания следов. Это тотальное из-бытие себя, тотальное вторжение небытия в бытие.
Д. Ф. А у тебя не было желания после написания своей книги сжечь её? А затем и себя?
А. Н. Это уже невозможно.
Д. Ф. Конечно, вечное возвращение уже поселило тебя в вечности. И escape тебе сделать не удастся.
А. Н. Но вечное возвращение тоже подчиняется влечению к концу, влечению к небытию, к тому, чего нет.
Д. Ф. Ницше предложил свой универсальный критерий оценки любых концепций, ценностей и настроений: служат ли они цветению и росту жизни (полноты бытия) или, наоборот, всячески жизнь подтачивают и отрицают (умаление бытия). В этих координатах концепция влечения к концу (к небытию) находит своё чёткое место как радикально противная жизни (бытию). Ницше подкупает всех своим критерием жизненности, наполненности бытия, проявленности, своей безудержной анафемой всему, что хочет спать, уйти, исчезнуть, раствориться.
А. Н. Я не последователь Фридриха Ницше и не намерен строить свои концепции в подражание его критериям. Ницше чаще всего показывает именно то, что не является жизнью, – на этих отрицательных примерах пытается говорить о «настоящей» жизни. Он философскими методами счищает красивую кожуру с яблока, но в глубине его зияет кочерыжка.
Д. Ф. Отрицательные примеры – не весь Ницше. Положительные примеры благородных и аристократических натур то и дело встречаются на страницах его книг. Это настроения, полагающие мерилом всех ценностей самих себя. «Хорошо то, что соответствует мне». Воля к власти (осознанная или неосознанная) есть движущая сила всех утверждающих жизнь натур. А вот противоположные им натуры стремятся к скромности, незаметности, непритязательности, умалению, сжатию.
А. Н. Боюсь, что за волей к власти и аристократизмом духа может скрываться самообман.
Д. Ф. Твоё предположение не говорит ничего против факта их существования. Оно говорит лишь ещё и ещё раз о преобладании в твоём мировоззрении нигилистических тенденций, о стремлении не столько к концу (которое невозможно), а вниз по лестнице бытия, в чёрную, манящую бездну небытия. Ничто как новый Бог?
А. Н. Да, энергия, которая затрачивается на волю к власти, может черпаться только из текстов, которые поют гимн жизни.
Д. Ф. Почему же? Есть ницшеанцы, которые никогда не читали текстов Ницше, но которые по природе своей избыточны в бытии. И если они прочтут однажды Ницше, то приятно удивятся – всё-таки есть философы, которые пишут о том, что соответствует нам.
А. Н. А мне кажется, что такие люди заведомо создают себе барьер для дальнейшего развития.
Д. Ф. Развитие можно понимать совершенно по-разному.
А. Н. У меня большой задел на будущее, который меня пугает. У меня слишком много будущего. Слишком большой пласт будущего, который я переношу в пласт настоящего в виде заведомо нереализованного; и этим вечным поражением пытаюсь осветить себе туда путь.
Д. Ф. Вечное поражение как вечно нереализованное? А что это за свет такой? Болотные огни?
А. Н. Этот свет освещает отсутствие.
Д. Ф. В чем здесь восторг и прелесть? В чём кайф? В чём интерес? Как это понимать?
А. Н. По-ницшеански.
Д. Ф. Как ты думаешь, что сказал бы Ницше про твою книгу?
А. Н. Мне кажется, что он бы её перехвалил.
Д. Ф. Он бы спросил: «Теперь так пишут? Я, наверное, чего-то в своё время не понял».
А. Н. «К чему я подвёл будущую философию!» Он удивился бы таким своим последствиям.
Д. Ф. А насколько ты знаком с творчеством философа Хамитова, который местами у тебя упоминается?
А. Н. Я прочитал только одну его книгу – вся мною исписана и исчёркана. Он приблизился к такому пределу, за которым начинаются вычитательные смыслы. Хамитов – единственный (?) в своём роде, кто показал настоящее лицо теории о человеке. Он подошёл к теоретическому пределу в понимании человека.
Д. Ф. Одна из его книг так и называется «Пределы человека», в которой он развивает весьма известную истину о том, что наши пределы и есть наша суть.
А. Н. Влечение к смерти в виде биологической программы мне не к лицу. Танатогенез (необратимое старение организма) начинается в среднем после 25 лет, а потому есть смысл говорить о влечении к смерти только до этого возраста, когда организм всё ещё растёт, пока продолжаются полёты во сне. Фрейд и Хайдеггер терминологически несостоятельны: бытие к смерти оправдано только до двадцатипятилетнего возраста.
 Д. Ф. А аскетизм мы тоже можем отнести к способу влечения к концу, к уходу из жизни, к практическому воплощению небытия. «Да погибнет мир, да будет философия, да будет философ, да буду я!»? Разве ты не считаешь философию лишь способом организации именно влечения к концу? Д. Ф. А аскетизм мы тоже можем отнести к способу влечения к концу, к уходу из жизни, к практическому воплощению небытия. «Да погибнет мир, да будет философия, да будет философ, да буду я!»? Разве ты не считаешь философию лишь способом организации именно влечения к концу?
А. Н. Именно так и считаю. Главный смысл философии – это подготовка к смерти, хотя стереотипно она понимается как бесстрашие перед смертью (в лице философа). Мне кажется, что человек, всю жизнь занимающийся философией, должен, тем не менее, сохранить перед приходом смерти какой-то страх, – оставить в себе нечто человеческое, а не смотреть на смерть глазами снобизма или другим предвзятым образом наподобие эпикуровского «Смерть для человека – ничто, так как, когда мы существуем, смерть ещё не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем».
Д. Ф. Не есть ли аскетизм и любые иные проявления отстранённости от мира и жизни (безбрачие, отказ от потомства, неоправданный риск) теми объективными показателями влечения к смерти, которое тебя так интересует?
А. Н. Те пределы человека, которые мы можем встретить в человеческих текстах, всегда есть пределы для вполне определённых целей, которыми невозможно предусмотреть будущее человечества.
Д. Ф. Неоконченный «Заратустра»…
А. Н. Я считаю Заратустру неоконченным текстом, потому что о многом Ницше умолчал. Но и здесь меня интересует не суть послания Заратустры, а его эксперимент над языком. Стилистическая революция в 24 года преждевременна.
Д. Ф. Наполеоновские планы?
А. Н. Хуже. Надеюсь определять собственные надежды. Единственная цель, которую мне под силу реализовать, это создание ещё одного уникального дискурса насилия в философии, усиление рессентимента в философии и в жизни, и через это умножение рессентимента – реабилитация и того, и другого. Пока приходится довольствоваться аллюзиями на Ницше, – не могу быть «странником» в собственном ницшевском смысле, но могу под стать его «тени».
Д. Ф. Если человек в 23 года пишет такой сложный текст, с выкрутасами за пределы современного дискурса, то что же будет дальше? Вейнингер в этом возрасте, например, застрелился. Майнлендер после опубликования своей работы «Философия искупления», повесился. Что будешь делать ты?
А. Н. Может быть, стану возвращаться к Богу? У философов одна дорога – преодоление философского Бога – Бытия – и возвращение к лично выношенному Богу. Процесс философствования есть процесс становления Богом. Отчуждаясь от прежних богов, ты получаешь их отчуждение в свою пользу, а затем надеваешь на себя брошенные ими божественные одежды. К Богу приходится возвращаться стезёй несовершенства, артикуляцией лингвистической некомпетентности в освещении проблемы небытия. Когда не хватает языка, начинаешь обращаться к Богу. «Бог умер» – слишком констатативно, поскольку оператор Бога (место под Бога, потребность в Боге) неискореним даже из словаря дискриминации.
Д. Ф. Это лингвистическая казуистика. Понятно, что на этом пустом месте ты совершенно справедливо пытаешься разместить Ничто, этого нового Бога с вечно инфернальным дыханием.
А. Н. Отказавшиеся от Бога попадают в руки небытия. Таков мейнстрим современной мысли.
Д. Ф. Люди постепенно начинают верить в слова Заратустры о том, что их душа умирает вместе с телом (небывалая для прежних времён вера!) и что личное небытие есть будущий факт их смерти. Душа так же смертна, как и всё остальное Наше.
Д. Ф. Какое у тебя впечатление от спецкурса по философии Ницше, который был впервые в истории России прочитан на философском факультете МГУ?
А. Н. У этого спецкурса была вполне обычная, просвещенческая цель: познакомить людей с философией Ницше, а не вырастить из публики ницшеанцев.
Д. Ф. Конечно, во втором смысле надо было бы мне читать лекции, а не Юлии Вадимовне Синеокой, которая является настоящим символом ницшеведения в России. Лекции были именно академическими: знакомство с основными работами, проблематикой, фактами биографии.
А. Н. С Ницше всегда хочется спорить, однако на лекциях такая потребность в споре с Ницше отпала сразу же. Лекции стали серьёзным испытанием – я ощущал себя нереализованным провокатором. Можно было бы спровоцировать много интересных дискуссий, но почти все из них обрывались либо цитатами, либо методическими заготовками. Если всё ницшеведение в нашей стране держится на Синеокой, то это, конечно, никудышная ситуация. Лекции о Ницше не должны быть слишком академичными, болезненно равнодушными. Такой манерой легко вызвать лишь презрение к философии Ницше, чего он сам больше всего и боялся. Именно это и произошло на лекциях (ни заинтересовать, ни по-настоящему отвратить от такой философии подобные лекции не могут).
Д. Ф. Тут я с тобой полностью согласен. Лекции были о некоей отвлеченной философии. Поистине – некая «просветлённая УСТАЛОСТЬ» окутывает наше погружение в Ницше и она никак не соответствует жизнеутверждающим настроениям ницшевских текстов. Переполненность Ницше, слишком много Ницше?
А. Н. Слишком мало точек соприкосновения с ним. А ещё – каждый ревнует к Ницше по-своему и каждый идёт собственной дорогой, радуясь, что остался при своём мнении о Ницше. Ницше даёт каждому человеку уникальную возможность сохранить самого себя, а не зависеть от мнения другого. Он позволяет каждому возвратиться к самому себе, к своему центру, к истоку, к которому он двигается против течения (напластования на себя других). Таким образом Ницше не объединяет, а разъединяет, обращая каждого к самому себе. Это всегда чувствуется при любом разговоре о Ницше.
Д. Ф. Именно поэтому невозможно никакого «общества любителей Ницше», «общества ницшеанцев», а возможно лишь ницшеведческое образование с академическими целями. Ницше для тебя допинг или транквилизатор?
А. Н. Скорее допинг. Он побуждает. Так же, как и Сартр, Хайдеггер, Деррида. И вот что странно: философской школы а-ля Ницше в XX веке так и не возникло, но и серьёзной критики философии Ницше тоже.
Д. Ф. Какие у тебя планы после окончания философского факультета? Аспирантура?
А. Н. Аспирантура, преподавательская деятельность.
Д. Ф. Ну и напоследок: есть ли у тебя три пожелания? Пожелание Ницше. Пожелание его последователям. Пожелание тем, кто хочет быть свободным от Ницше.
А. Н. Читайте тексты Ницше. Всем – одно и то же пожелание. Но всего лучше, вместо ответа на вопрос, – быстро встать и уйти восвояси.
http://www.nietzsche.ru/texts/meet_nilogov.doc |