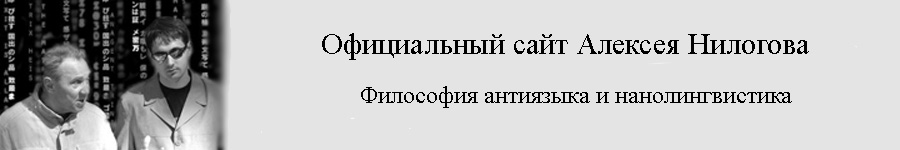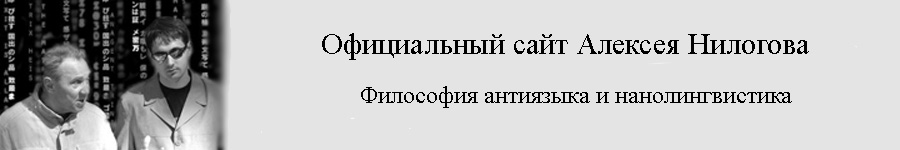Александр Куприянович Секацкий (род. 1958) – современный русский (а ещё и петербуржский) философ-эссеист, публицист, писатель; софист по убеждению и призванию, магистр незримой имперской пропаганды и отложенного будущего. Поступил на философский факультет ЛГУ в 1975 году, но через два года был исключён за антисоветскую агитацию и пропаганду (четыре месяца провёл в следственном изоляторе КГБ). Отслужив в стройбате и получив навыки многих полезных профессий (сторожа, кочегара, киномеханика, сварщика, табунщика, осветителя и др.), укрепился на философской стезе. В 1988 году восстановился на факультете и закончил его. В 1995 году защитил диссертацию «Онтология лжи». Между делом преподаёт философию в Санкт-Петербургском университете на факультете философии и политологии (доцент кафедры социальной философии и философии истории). Александр Секацкий как публицист и философ – один из лидеров идеологической группы, получившей название «петербуржские фундаменталисты». Александр Куприянович Секацкий (род. 1958) – современный русский (а ещё и петербуржский) философ-эссеист, публицист, писатель; софист по убеждению и призванию, магистр незримой имперской пропаганды и отложенного будущего. Поступил на философский факультет ЛГУ в 1975 году, но через два года был исключён за антисоветскую агитацию и пропаганду (четыре месяца провёл в следственном изоляторе КГБ). Отслужив в стройбате и получив навыки многих полезных профессий (сторожа, кочегара, киномеханика, сварщика, табунщика, осветителя и др.), укрепился на философской стезе. В 1988 году восстановился на факультете и закончил его. В 1995 году защитил диссертацию «Онтология лжи». Между делом преподаёт философию в Санкт-Петербургском университете на факультете философии и политологии (доцент кафедры социальной философии и философии истории). Александр Секацкий как публицист и философ – один из лидеров идеологической группы, получившей название «петербуржские фундаменталисты».
Автор книг художественно-философской эссеистики: «Моги и их могущества: Трактат», «Соблазн и воля», «Онтология лжи», «Три шага в сторону», «Прикладная метафизика: Эссе», «Сила взрывной волны», «Дезертиры с Острова Сокровищ». В короткий список нынешнего «Национального бестселлера» вошла книга «Два ларца: бирюзовый и нефритовый», памятник китайской средневековой культуры, появившийся на свет благодаря исследовательским усилиям Александра Секацкого.
– Вы являетесь теоретиком и практиком такого феномена, как «можество» («могизм»?). Чем отличается мог от мага?
– Отличия достаточно подробно рассмотрены в трактате «Моги и их могущества». Стоит добавить, что за последние десятилетия существенно изменилось соотношение магического и символического, в частности, современный художник столкнулся с самым глубоким кризисом перепроизводства в истории – кризисом перепроизводства символического. Стремительное обесценивание артефактов привело к тому, что совершенно потерял кредит доверия сам артефакт как таковой. В своё время форма художественного произведения восторжествовала над форматом вещего слова (и вещего жеста) благодаря несравненно большей свободе и, так сказать, безнаказанности в обращении с «чисто символическими» техниками. Но возможности, предоставляемые дешёвыми носителями, типа бумаги, папье-маше и целлулоида, исчерпались. Стало ясно, что искусство либо вновь вернётся к опасным техникам, либо окончательно затеряется среди прочих порождений массового производства. Сегодня для Художника нет ничего актуальнее, чем опыт алхимика, чернокнижника, чем практика могов, если хотите.
– Как вы относитесь к одиннадцатому тезису о Фейербахе, учитывая неоднократные уточнения его перевода?
– Маркс проговорился о том, о чём другие философы предпочитали и предпочитают молчать: задача изменить мир есть своего рода подрывная миссия, присущая всякому настоящему автору и тем более философу. Успех подрывной миссии, как известно, зависит от соблюдения конспирации – самопрезентация метафизики как знания не от мира сего предоставляла философу некоторую свободу высказываний, недопустимую для других символических порядков. «Признательные показания» Маркса в каком-то смысле повлияли на судьбу философии и философов в Советской России: философы лишились даже той безнаказанности, которой пользовались в ситуациях религиозного фанатизма.
Однако, как заметил Николай Иванов, порой приоткрывают истину лишь для того, чтобы скрыть ложь: в «тезисах о Фейербахе» содержится характерная недоговорённость, вызванная смещением акцента. Дело в том, что объяснить мир, повысить степень его ясности и проницаемости, и значит произвести в нём самое радикальное изменение. Ибо наиболее эффективным инструментом преобразования мира является правильный порядок слов.
– Почему вы считаете Штирлица архетипом современного русского философа?
– Инстанция самосознания, которую можно назвать «штирлицем» или «шпионом-во-мне», отвечает за круговую оборону от мира. Поэтому эта инстанция сохраняется даже тогда, когда философия теряет свою дисциплинарную форму или попросту не доходит до неё. Тот или иной признанный философский дискурс скорее позволяет ослабить напряжение деятельности Штирлица, давая шпиону передышку. Экзистенциальная шпионология отходит на второй план, когда философия начинает практиковать узаконенный обмен текстами – в традиции европейской метафизики граница проходит между Сократом и Платоном. Вторичная интенсификация «шпионологической озабоченности» связана обычно с нехваткой признанности. Хроническая недостаточность признанности неизменно сопровождает русскую философию, принимая порой крайне острые формы – с таким очередным обострением мы как раз имеем дело сегодня.
– Какой, на ваш взгляд, основной грех русской философии?
– Как известно, младенцы безгрешны, даже если им удаётся сохранять младенческое состояние до седых волос.
– Как вы относитесь к идее Александра Дугина обосновать русское Dasein?
– Проблема подлинности и собственной аутентичности является, безусловно, важнейшей во всех тех сферах, в которых определён субъект. Первый шаг в этом направлении с безукоризненной лаконичностью сформулирован Фридрихом Ницше: только не спутайте меня с кем-то другим. Значимость национального или, скажем, имперского вхождения, то есть специфической включённости в большое социальное поле не носит характера универсалии. Нетрудно представить субъекта, вполне самодостаточного и без такой включённости. Великое множество подобных обитателей мира можно найти, например, среди сегодняшних жителей общеевропейского дома. Но полная версия человеческого в человеке предполагает это трансцендентное расширение. Хайдеггер нигде не говорит о специфически немецкой окраске Dasein, однако мы вправе предположить, что специфика присутствует в самом способе тематизации сущего. Проект российской самобытности на экзистенциальном уровне отнюдь не является фикцией: учитывая опыт истории можно утверждать, что властителем дум в России станет лишь тот, кто сумеет предложить наиболее яркий и убедительный проект национальной аутентичности.
– А ваше отношение к его интерпретации традиционализма?
– Полагаю, что Александр Дугин, не только своими текстами, но и как фигура, занимает достойное место в философской панораме современной России. Он и драматург, и актер великого конспирологического театра. Представляемая Дугиным версия философского бытия (бытия философом) вносит своеобразные краски в совокупный опыт философствования.
– Можете ли вы согласиться с мнением Сергея Хоружего, что в современной русской философии сильна тенденция ресоветизации?
– В философии это как раз мало заметно, а вот в других сферах публичной речи – в педагогике, в политике, в искусстве – подобная тенденция налицо. Когда-то соц-арт входил в состав художественного авангарда, а все авангарды, как известно, рано или поздно впадают в мейнстрим. Похоже, что соц-арт наконец распробовали, и он пришёлся по вкусу достаточно широкой публике, особенно телеведущим и политтехнологам. Вслед за этим началось самозапугивание – излюбленное занятие русской интеллигенции. Что же касается базиса, выражаясь марксистским языком, то там диктатура капитала пока непоколебима: туда риторика не проникает, а если и проникает, то нисколько не меняет сути дела.
– Готовы ли вы возглавить смену философских поколений в России или нужно дождаться естественной смерти «марксистских динозавров»?
– Любопытно было бы взглянуть на человека, заявляющего: «Я готов возглавить смену философских поколений в России!» По сравнению с ним Ленин, восклицающий: «Есть такая партия!» выглядел бы сущим скромнягой. А между тем для имманентных задач философии, в той мере, в какой они персонифицированы в Философе, «руководство поколением» есть нечто внешнее и тягостное. Можно представить себе кислую мину Гегеля в ответ на подобное предложение: ну, разве что, между делом, отдыхая от диктата Абсолютного Духа.
В связи с этим хотел бы заметить, что традиционно напряжённые отношения Художника (в самом широком смысле этого слова) с властью понимаются превратно. Напряжённость отношений имеет множество причин, в том числе, и невроз зависти: как, я, такой талантливый, в нищете, а вы, такие придурки, – в парламенте. И всё же основная причина отсутствия взаимопонимания состоит в том, что власть, на которую претендует Художник, несравненно более высокого качества, чем политическая власть. Писатель, например, осознаёт, или интуитивно чувствует, что воздаваемые политику почести позиционны, а не персональны; они адресованы месту, социальной роли, и кто завтра окажется в этой ячейке, тот их и получит – а послезавтра утратит, и поминай как звали. То ли дело признанные, вознесённые на пьедестал собратья – уж им-то не грозит быть перепутанными с кем-то другим. Так что зависть, по меньшей мере, взаимна, и симптомы встречной зависти от актерских претензий Нерона до стишков Мао Цзэдуна крайне поучительны.
– Что вы можете сказать о философском ресентименте, следствием которого является восстание рабов не столько в морали, сколько в самой философии?
– Если понимать ресентимент в духе Ницше, то его производной является вся дисциплинарная философия как таковая. Возможность писать философские манифесты, не предъявляя их к проживанию, лежит в основе всей европейской философии: строго говоря, ресентимент в философии проявляется, прежде всего, как молчаливо признаваемое право руководствовать других тем, чем не руководствуешься сам. После этого критика в адрес тех, кто не желает только руководствоваться, предпочитая внести собственное авторизованное искажение в преднаходимую сумму текстов, несущественна, она не меняет сути дела с точки зрения ресентимента.
– Как вы относитесь к жанру «философской попсы», характеризующейся банализацией и тривиализацией философии par excellence?
– Философская «попса» может иметь вполне академический вид, не переставая от этого быть дешёвкой. По долгу службы мне то и дело приходится читать увесистые диссертации и прочие весьма объёмистые работы «внутреннего пользования», и я до сих пор не устаю удивляться, какой колоссальный труд может быть затрачен на то, чтобы сокрыть отсутствие мысли. Собственно поп-культура, где всё на виду и где наличие или отсутствие мысли никак не влияет на итоговый успех, представляет собой чрезвычайно сложную площадку как для философии, так и для её имитации. С этого майдана философ, как правило, безжалостно изгоняем под свист и улюлюканье публики – немудрено, что в своём отчёте он не находит добрых слов для характеристики царящих там нравов. Но если вдруг удаётся удержать уровень философской подлинности в столь неблагоприятных условиях, – что получается у Бодрийяра, а иногда и у Пелевина, – то это, на мой взгляд, можно считать высшим пилотажем.
– Как вы оцениваете вклад в науку и философию Александра Зиновьева?
– Мне кажется, Зиновьев всю жизнь практиковал «бытие-поперёк», но в его случае принцип неизменной оппозиции всему господствующему (что бы ни господствовало), оплачивался валютой самой жизни. Именно величина, весомость ставки отличает простую вздорность от высокой принципиальности, от готовности всякий раз действовать по линии наибольшего сопротивления.
Такая человеческая позиция вызывает уважение, хотя она и не соответствует «оптимуму условий» для философии и философа в соответствии с критериями Ницше. Кстати, пример Гегеля, заурядного бюргера «по жизни» и величайшего мыслителя в предъявленных миру текстах, есть великолепное подтверждение того, что дух воистину дышит, где хочет.
– Сколько поколений философов должно смениться, чтобы призраки диамата и истмата навсегда покинули пространство русской мысли?
– Призраки, как известно, бессмертны – главным образом потому, что они уже умерли. Но в отличие от упокоенных душ они суть беспокойники и, как вы верно заметили, предпочитают бродить и являться в тех местах, где сохраняется надежда на новое воплощение. Поэтому есть основания полагать, что «территорию русской мысли» они не покинут никогда – по крайне мере, этого не случится в обозримом будущем. Наоборот, именно ближайшее поколение, незнакомое с гнусностью исторически отработанных воплощений, представляет для призраков особый интерес – и опасность очередного соблазнения я оцениваю как достаточно высокую.
Что же касается пребывания истмата и диамата в состоянии призрачности, тут я не вижу большой беды: благодаря работе ассоциаций они могут внести свои особые краски в духовное производство России подобно тому, как средневековая практика кабалистики и гематрии до сих пор расцвечивает духовную жизнь еврейских диаспор.
– Чем, по вашему мнению, стилистически разнятся академическая философия и философская публицистика (беллетристика)?
– Именно стиль служит критерием для этого зыбкого, меняющегося от эпохи к эпохе различия. Основные пассажи метафизического ворчания в адрес фельетонной эпохи всем известны, и повторять их нет особого смысла. Они в значительной мере справедливы, хотя забавно, что многие признанные метафизики впадают в публицистический тон как раз тогда, когда обличают публицистику. Хотелось бы отметить другое. Сама по себе академическая среда отнюдь не является сверхпроводником истины, особенно в философии, зато в качестве убежища для бездарностей она гораздо более надёжна, чем открытый всем ветрам агон публичности. Ведь одно дело тексты Гегеля или Хайдеггера, служащие абсолютно аутентичным выражением мысли, и совсем другое – дремучее косноязычие многочисленных эпигонов.
– Согласны ли вы с таким тезисом, что философию нужно нести в массы?
– От этого вопроса можно было и отмахнуться, например, сказав: нести чушь и нести философию в массы – это одно и то же. Но в действительности дело обстоит вовсе не так просто. Тут уместно вспомнить точное замечание Антонио Грамши относительно философского проекта Маркса: «Марксизм, – говорит Грамши, – отличался и отличается от имманентных философий тем, что он неустанно заботился о своём проникновении в массы, и эта забота не только не привела к профанации продуманного теоретического содержания, но и закалила в полемике его философский стержень». С другой стороны, схожий по своей интенции поход психоанализа в массы закончился плачевно. То есть, завершился полной профанацией. Стало быть, однозначного ответа здесь не существует – но, наверное, стоит привести любимое изречение Шнеура Залмана, одного из основателей Хабада: «Будучи первичной в порядке творения, Тора, тем не менее, изливается в мир, лишь повинуясь встречной духовной жажде».
– Возможно ли искусственное стимулирование создания оригинальной русской философии всемирно-исторического масштаба (например, гуманитарный «манхэттенский проект» Олега Матвейчева)?
– Относительно упомянутого вами проекта, мне, к сожалению, ничего не известно. Но как-то, наполовину в шутку, наполовину всерьёз, Константин Пигров заметил: «Мы, в сущности, ничем не хуже французов, разница лишь в том, что их философия раскручена, потому что они непрерывно друг друга цитируют и успешно продают в упаковке последней философской новости. Мы же друг друга даже не читаем, а при этом мечтаем о том, чтобы когда-нибудь понравиться тем же французам».
Я полагаю, что возможность раскрутки на ровном месте сильно преувеличена. Даже если миф о всемогуществе политтехнологов и кураторов-артмейкеров имеет какое-то отношение к реальности, философии он касается в последнюю очередь. Вспоминается проект под условным названием «Семиотика», которым были буквально загипнотизированы европейские интеллектуалы 1970-х годов. Что осталось от него сегодня? Слабый шлейф в виде текстов Кристевой и, отчасти, тартусской школы. Плюс ощущение схлынувшего наваждения. А «Курс лекций» Фердинанда де Соссюра, по-прежнему пробуждающий мысль, не потеряется и за пределами отработанного и отброшенного дискурса.
Так что, когда я слышу о внешнем стимулировании философской востребованности, мне всегда хочется сказать: «Пустые хлопоты…»
– Какую ценность для вас имеет русская философия почвеннического извода XIX века? Насколько перспективны славянофильские идеи сегодня?
– В плане политических предпочтений мне симпатичнее евразийская идея. А с точки зрения философской крутизны, конечно же, Николай Фёдоров. И ОБЭРИУты.
– Можно ли назвать вашу философскую манеру фаст-фудом?
– Это дело ваше, хотите – называйте. Но мне больше по душе другая кулинарная метафора. Как-то недавно мой приятель, петербургский фундаменталист, писатель Сергей Коровин, заявил мне: «Секацкий, по-моему, ты печёшь книжки как блины…» Я хотел было обидеться: дескать, что ты имеешь против блинов? – но вовремя остановился, ведь как раз блины всегда казались мне недосягаемым образцом кулинарного мастерства. Испечь блин мне ни разу не удалось, и подозреваю, что не удастся. Вместо них я и пишу книжки – пока пишутся.
Кстати, если говорить о том, что вызывает у меня наибольшее уныние, так это натужная имитация позы мудрости – нет ничего более фальшивого и далёкого от обыкновений вменяемого человека, чем такая имитация.
Беседовал Алексей Нилогов
http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/08/757/61.html |