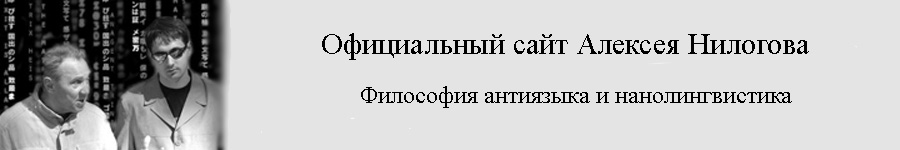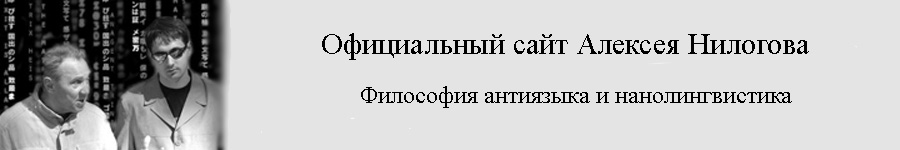Михаил Александрович Богатов (род. 1980) – современный русский критик, писатель, поэт, философ. Кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической и социальной философии факультета философии и психологии Саратовского государственного университета. Сфера научных интересов: античная философия, философия XX века, философия языка. Главный редактор теоретического альманаха «Res cogitans». Руководитель секции молодых учёных Саратовского регионального отделения РФО. Региональный координатор всероссийской литературной премии «Дебют», член экспертного совета премии, организатор ежегодного фестиваля «Дебют–Саратов». Участник литературных фестивалей (Москва, Нижний Новгород, Саратов). Имеет художественные публикации и критику в журналах «Волга» (Саратов), «Октябрь» (Москва), «Credo New» (Санкт-Петербург). Имеет свыше тридцати научных публикаций. Автор таких книг, как «Природное и искусственное: онтология целой вещи» (Саратов, 2002), «Манифест онтологии» (М., 2007) и «Искусство бытия» (М., 2008). Наша беседа с Михаилом Александровичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия». Михаил Александрович Богатов (род. 1980) – современный русский критик, писатель, поэт, философ. Кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической и социальной философии факультета философии и психологии Саратовского государственного университета. Сфера научных интересов: античная философия, философия XX века, философия языка. Главный редактор теоретического альманаха «Res cogitans». Руководитель секции молодых учёных Саратовского регионального отделения РФО. Региональный координатор всероссийской литературной премии «Дебют», член экспертного совета премии, организатор ежегодного фестиваля «Дебют–Саратов». Участник литературных фестивалей (Москва, Нижний Новгород, Саратов). Имеет художественные публикации и критику в журналах «Волга» (Саратов), «Октябрь» (Москва), «Credo New» (Санкт-Петербург). Имеет свыше тридцати научных публикаций. Автор таких книг, как «Природное и искусственное: онтология целой вещи» (Саратов, 2002), «Манифест онтологии» (М., 2007) и «Искусство бытия» (М., 2008). Наша беседа с Михаилом Александровичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия».
– Михаил Александрович, что вы можете сказать о современной русской философии? Какими именами она представлена?
– Вопрос этот можно понять двояко. Во-первых, здесь предполагается понимание того, возможно ли такое явление, как «русская философия» в принципе и, во-вторых, речь идёт о людях, которые пишут философские тексты на русском языке. Что касается первой половины, то необходимо отметить неочевидность такого явления, как «русская философия», равно как и «французская философия» или «немецкая философия». Подобные словосочетания порождены не философией, но необходимостью её преподавания и соответственно представляют интересы определённых людей, которым платят деньги не за то, что они – философы (за это денег не платят никогда, напротив, самому необходимо тщательно потратиться на то, чтобы мочь быть философом – в любую эпоху), а за то, что они преподают нечто именуемое в учебных планах в качестве «философии».
Что касается второй половины вопроса, то всегда отмечается трудность говорения о современной философии, и большая часть преподавателей философии (забывших, что они – лишь преподаватели, и возомнивших себя философами) склоняется к тому, что в современной России философии нет. Это далеко не так. Просто критериями должны быть другие вещи. Во времена Канта тоже не было философии. И во времена Сократа также. А что уж говорить о временах Ницше или Монтеня?.. Я называю современными русскими философами тех людей, которые – независимо от того, какую позицию они занимают в собственно философии (могут вообще никакой не занимать или занимать не ту, что думают), – помогают делу философии как те, которые заботятся о ней. Вспомните образ Хайдеггера о смотрителе картинной галереи. Вот таких смотрителей в России и следует сегодня называть философами. Можно на модный манер именовать их управляющими делом философии с формальной стороны. Такие люди есть везде – как в столичных городах, так и в провинциальных, – лишь бы там были высшие учебные заведения, где можно преподавать философию. Причём последнее – это лишь негативное условие для появления таких людей, ибо там, где преподают философию, не обязательно будут философы, зато там, где её не преподают, – их обязательно не будет. Такая тесная связь между философами и университетами – дело не российское, а общемировое. И завязалась она ещё во времена Канта. Современные русские философы – это те, кого можно назвать друзьями философии.
– Что представляет собой русская философия в провинции? Насколько она «провинциальна» по сравнению со столичной?
– Вопрос несколько непонятен, ибо по какому полю проходит межа столичной и провинциальной философий?.. Если спросить иначе: кто они, философы, работающие в провинции и философы, работающие в столице, и какие между ними различия? Я бы поостерёгся давать какие-то сущностные характеристики тем и другим. Единственное, что бесспорно, так это то, что в провинции люди по большей части ориентируются на преподавание и строгое выполнение учебных планов, относясь к философии как к роду офисной работы. С одной стороны, в столицах больше возможностей для собственно исследовательских чаяний, а с другой – провинция способна выдать на-гора такую тему, которую не возьмётся поднимать ни один из столичных философов постольку, поскольку в провинции люди меньше зависят от грантовой политики. Но и это ещё подлежит особой оценке. Я как раз сейчас готовлю пятый номер своего – провинциального! – альманаха «Res Cogitans», который так и будет называться: «Провинция». Ведь провинция, например, в Европе – это сугубо географическая характеристика, в то время как у нас это характеристика сущностная. Боюсь, что провинция философии и философия провинции – это сложные темы, которые нельзя раскрыть в рамках ответа на один вопрос. В России провинция – это концепт, под властью которого находятся, как это ни странно, в первую очередь люди «столичные».
– Каким вам видится реформирование отечественных философских институций?
– Институция номер один – это университеты. Вслед за Шопенгауэром и Делёзом я полагаю, что обязательное присутствие философии в программах образования губительно для философии, хотя и спасительно для её преподавателей. Думается, что скоро университет как форма существования философии отомрёт вовсе – во всём мире (а в России об этом заботятся куда прогрессивнее, избавляясь от университетского образования). Только при необязательности философии для тех людей, которые к ней неспособны, есть смысл изменять «деревянные» содержания учебных дисциплин по философским наукам, избавляясь от всех тем и вопросов, созданных лишь для того, чтобы преподавать и обучаться бездумно, в то время как диаматовские рудименты – не самое главное зло. Куда хуже обстоит дело с новыми темами (то есть с теми, которые прежде были закрыты в нашей стране), поданными ещё более непродуманно и безграмотно. Хотя особых претензий здесь быть не может, поскольку ещё хуже обстояли бы дела с таким учебным планом, который провоцировал бы исключительно на творческое осмысление. Сегодня нет ни одного учебного плана по философии, который бы не позволял мыслить тому, кто этого желает (пусть даже сугубо негативно).
Другим тревожным веянием является включение в философские науки новых дисциплин, как правило, управленческого толка. Тот, кто это делает, полагает, вероятно, что оказывает философии полезную услугу, превращая её в «актуальную» и «востребованную». Нет ничего опаснее для подлинного мышления, как погоня за тем и другим. Печальный пример тому Ален Бадью.
Мне не верится, что институции могут каким-то образом повлиять на философию, а потому любые реформы, проходящие под знаком «мы хотим сделать лучше философии» – это лишь уловки, за которыми, как сказал бы Маркс, стоит интерес определённого класса людей. Безусловно, интерес экономический (что можно проследить как по лакмусовой бумаге на ситуации с ВАКом). Было бы любопытно посмотреть на наличие класса людей с философскими интересами.
– Почему в названии своей книги «Манифест онтологии» вы использовали именно слово «манифест»? Можно ли признать, что ничего, кроме манифестационной риторики сказать о бытии нельзя?
– Латинское слово «manifestare» означает «делать явным». В этом смысле можно перевести название как «показ онтологии». Причём здесь двойной смысл родительного падежа: во-первых, осуществляется показ того, что такое онтология, и, во-вторых, онтология показывает себя. В этом смысле онтологию (как и философию) вообще можно лишь манифестировать, ибо больше ничего с ней делать нельзя. Здесь необходимо увидеть существенную – от греков идущую – связь между деланием и показом. Можно показать и не сделать, но нельзя сделать и не показать. Платон об этом прекрасно знал, да и Гераклит со своей прячущейся природой. Кроме того, в этом названии есть ещё и современный смысл манифестации как декларации, провозглашения некоторой программы. Однако полностью этот аспект раскроется лишь после выхода (этой осенью) второго тома работы, где речь идёт уже не о связи онтологии с политикой и экономикой, но всех их вместе – на основании искусства.
Стоит обратить внимание также на то обстоятельство, что manifestare – это действие, проявляющее действие, действие являющее. В этом отношении онтологией является уже сама цель онтологию сделать явной. Однако не стоит думать так, будто делание онтологии явной может быть внешним по отношению к ней делом (как это зачастую полагают устроители всевозможных конференций: дадим тему, а она сама собой развернётся). Также хотелось бы предостеречь от понимания «делать явной» от необоснованно популярной рубрики «актуальности», фигурирующей во всех работах – от курсовых и дипломов студентов до докторских диссертаций и, что самое ужасное, в книгах по философии, которые никто не заставляет писать по шаблону. Логика, скрывающаяся за рубрикой «актуальности» (сейчас мы покажем актуальность, а дальше – не касаясь уже никакой актуальности – потихоньку займёмся тем, чем сможем) прямо противоположна смыслу манифестации онтологии: онтология делает актуальное актуальным, а не наоборот. Это, если угодно, условие для любого философского манифеста, без которого нет никакого смысла заниматься философией вовсе.
Что касается «манифестационной риторики», то в смысле «делания явным» любую речь можно назвать манифестационной риторикой, в то время как если вспомнить о риторике как об определённой (и, возможно, единственно состоятельной) технике речи, то философия всегда может претендовать на манифестационность собственной техники, но и это – лишь в лучшем случае.
– Вы готовите к печати второй том «Манифеста онтологии». Чем он будет отличаться от первого тома? Что станет его главной проблемой?
– В первом томе речь идёт о неизбежной редукции вопросительности вопроса о бытии к политике или экономике даже тогда, когда эта редукция остаётся в пределах самой онтологии, то есть не там, где философы говорят об экономических или политических «актуальных» проблемах, размывая статус философа, но в первую очередь там, где они остаются в рамках собственно философских вопросов и речей; именно там совершается редукция философии к нефилософии посредством экономических и политических стратегий в философской мысли. Это своего рода троянский конь философской мысли. Можно восхищаться самим конём как произведением искусства, однако троянский конь запомнился в иной роли, поскольку в его чреве сидели вооружённые воины. О целях этих воинов рассказывается в первом томе. Оставляя позади метафору, можно сказать, что удержать вопросительность вопроса о бытии – значит сломать то, что Хайдеггер именует мирностью мира. Но предельным опытом изначально поломанной мирности мира в каком-либо сущем выступает произведение искусства. Оно изначально сделано в статусе «как бы». Оно предстаёт «нормальным» произведением искусства, самим собой, лишь постольку, поскольку изначально «ненормально» в сравнении с употребляемыми человеком внутримирными сущими.
Второй том «Манифеста онтологии» – это опыт обучения собственно поломанности сущего, но не как его ущербности, которую нужно исправить или заменить, а которая позволяет тому, что поломано, впервые быть собою. Иначе говоря, если в первом томе речь шла о неизбежных редукциях онтологии к политике и экономике, неизбежных, но нежелательных, то теперь речь идёт о возможной практике обучения онтологии у того, что прежде именовалось эстетикой, а если отвечать совсем просто, то об онтологии эстетического. Если в первом томе происходит обращение к античности как удачному опыту преодоления редукции вопроса о бытии посредством поглощения самого редуцирующего редуцируемым (через тему избытка), то здесь, хотя и отправляясь от диалога Платона «Ион», идёт обращение в основном к опыту Нового времени, поскольку именно Канта можно назвать основателем философской эстетики по преимуществу (в то время как Гегеля сюда причислять противопоказано). Однако у Гегеля тоже можно кое-чему поучиться, причём в самых неожиданных для него местах. Если первый том – это обретение языка для высказывания посредством негативных разысканий, то второй том – попытка высказать на этом языке утверждение.
Можно также сказать, что второй том – это попытка мыслить философскую эстетику всерьёз, игнорируя попытки её всестороннего расширения (а по сути – редукции) к нехудожественным – в первую очередь повседневным практикам (будто бы мы уже легко мыслим художественное произведение искусства). Мыслить бытие как мыслить искусство – вот лейтмотив книги. А для того чтобы она стала выполнимой, надо снова спросить: «Что значит мыслить искусство?»
– Существует ли, по вашему мнению, опасность редукции онтологии (а в целом и философии) к математике (например, книга французского философа Алена Бадью «Бытие и событие»), а не к физике, поскольку математические модели по определению опережают их физическое (физикалистское) воплощение (например, в физике виртуальных частиц)?
– Мне кажется, что в период «Бытия и события» Бадью как раз не редуцирует философию к математике, а предоставляет нам достойный античности проект философии как таковой, отличной от феноменологической, герменевтической, структуралистской и прочих линий, но от этого не делающийся менее философским (скорее наоборот). Можно даже сказать, что Гуссерль больше редуцирует философию к математике в своей феноменологии, чем это делает Бадью. То, что происходит с Бадью теперь, показало подлинную опасность – занятие злободневностью с претензией на философскую значимость. Я бы назвал это синдромом Умберто Эко. Именно это губит философию посильнее увлечений математикой. Когда я говорю о том, что Бадью не сводит философию к математике даже тогда, когда говорит о математике в философии, я разумею под этим то, что стратегии мышления Бадью остаются предельно философскими.
Опасность редукции философии к техническим дисциплинам существует, правда, здесь уже не имеет значения, какие именно это дисциплины. В России эта опасность велика постольку, поскольку онтология в учебных планах предстаёт недоделанной физикой с претензией на глобальность охвата. Экономика, политология, социология и культурология (а также другие гуманитарные дисциплины) – не менее техничны по сравнению с философией, но опасаться их не стоит. Пусть будет предоставлен достойный осмысления труд, в котором философия будет редуцирована к математике, биологии или социологии так, чтобы после этого о философии можно было последовательно и честно забыть. Если можно последовательно и философски изжить философию – пусть это произойдёт! К сожалению, все отрицатели философии как раз не являются философами, а потому их высказывания снимают сами себя.
– Как вы относитесь к терминологическому различению онтологии как учения о сущем и эйнайлогии как учения о бытии?
– Вопрос этот, безусловно, навеян онтологической дифференциацией, введённой Хайдеггером – различием бытия и сущего (бытующего). Или как разделял Габриэль Марсель – сущего и существования. Но и только. Во всём остальном – это лишь «балаганная песенка» онтологического различия. Именно так Заратустра назвал версию вечного возращения, услышанную от его собственных зверей. Заратустра не успел ещё помыслить вечное возвращение, а его звери уже всё поняли. Ведь если принять такое различие в дисциплинах, то что можно сказать об эйнайлогии, кроме того, что ей недостаёт сущего, то есть онтологии? И наоборот. Это уже игра словами. Можно, конечно, попытаться приписать науке о сущем – онтологии (в версии вопроса) – то, что Хайдеггер называет онтическим уровнем. Тогда онтологиями станут все науки, которые, как говорил Гуссерль, занимаются регионами. Вот что только это даёт по существу? – даже не вопрос, поскольку ответ очевиден – ничего. Хотя, вполне возможно, есть какая-то выгода в таком делении для тех, кто любит множить сущности без основания – это преподаватели и чиновники от образования. Ведь можно получить дополнительные часы (и соответственно оплату за них), если ввести к курсу онтологии ещё и неведомый курс эйнайлогии.
– Прониклись ли вы стилистикой пата при постановке вопроса о бытии под вопрос? Может быть, онтологии следует уступить место патологии?
– Если под «патом» подразумевается греческий pathos (страсть), то, безусловно, любая философская работа – это работа страстная и работа страсти. Не случайно, что моя книга начинается с обращения к стоической апатии как к способу накопления страсти, а не избавления от неё. Другое дело, что методом философии в таком случае будет определённая неэкономическая стратегия взрыва страсти.
Если под патологией понимать некоторую науку о страстях (естественно, не в психологическом смысле слова), то её основательно продумал Ницше. В этом смысле онтологам следует побольше и повнимательнее читать Ницше.
– Какое место в вашей философской методологии занимает язык? Согласны ли вы с мнением философа Фёдора Гиренка о том, что язык – это проходной дом бытия?
– Язык – это единственное, что есть у философии. В то же время философия – это не единственное, что есть у языка. Попытка присвоить имеющееся у языка в полноправное ведение философии плачевна для неё. Попытка вывести философию из языка с претензией на некую непонятную занятость «самими вещами» – бессмысленна, ибо «сами вещи» – тоже слова. Метафора Гиренка, заимствованная из философии Хайдеггера, мне не очень ясна, хотя вполне возможна.
– Читая ваши тексты, в первую очередь бросается в глаза их философский стиль, во многом напоминающий бибихинскую манеру перевода «Бытия и времени» Мартина Хайдеггера? Согласны ли вы с такой интерпретацией?
– Мой стиль философствования определяется не бибихинским переводом Хайдеггера, а литературными склонностями. Дело в том, что при написании я не вижу необходимости делать стилистического различия между художественным и собственно философским текстом. Люди, которые изначально читали только мои философские тексты, говорят затем, что я слишком нагружаю прозу, в то время как в действительности всё наоборот: мои художественные склонности идут с самого детства, а потому философии пришлось считаться со вполне сформировавшимся стилем. Хайдеггер действительно сообразовался для меня с тем, что мне ближе всего: по нему я писал диплом и фактически кандидатскую диссертацию. Но с таким же успехом я мог бы писать по Морису Бланшо. Свой язык я нахожу не в поле философских штудий, а в текстах Марселя Пруста, Франца Кафки, Джеймса Джойса, Сэмюэла Беккета и Германа Гессе. Меня совершенно не волнует тот момент, что эти писатели – излюбленные мишени для философов. Я никогда не удовлетворялся философским прочтением этих авторов и выискиванием в них того, чего в них нет.
– Прогнозируете ли вы метафорическую смерть философии языка? Как вы оцениваете отечественную традицию аналитической философии? В чём вы видите принципиальное различие между аналитической философией и философией языка?
– Философия языка – по меньшей мере в замысле Вильгельма фон Гумбольдта – это, как минимум, философия того, что Хайдеггер именует «миром», которого нет ни у животных, ни у камней, ни у ангелов. Здесь необходимо вспомнить замечательный пассаж из «Политики» Аристотеля, когда он в самом начале говорит о том, что те, кто не обладают речью, являются либо богами, либо зверьми (благородными и подлыми соответственно), а потому исключаются из полиса. Необходимо вспомнить юношескую работу Фридриха Ницше «Об истине и лжи во вненравственном смысле», где он говорит о том, что говорить нас заставляют скука (с одной стороны) и нужда (с другой). Вот такая получается политическая зарисовка нашего мира, конституируемого нуждой и скукой. Но другого мира у нас нет.
Я не склонен полагать, что философия может умирать. Может умирать способность к ней – но лишь у тех, кто изначально до неё не дотягивает. То, что именуется аналитической философией, создаёт у меня двойственное впечатление. С одной стороны – это нечто едва-едва вышедшее из психологии (вспомните ужасный пример Бертрана Рассела, который называет свою маму сгустком атомов в пространстве), а в этом смысле аналитику давно преодолел Мишель Фуко, показавший обусловленность всевозможных психологических и социологических проектов наук. С другой стороны, философия анализа претендует на выявление того, как конституирован мир, этакий трансцендентальный проект, если использовать последнее прилагательное в строгом кантовском смысле. Но тогда она упирается не в фукианское, а кантовское преодоление.
Если философия языка призвана творить мир (как синтезирующая философия), то философия анализа призвана его разделять и соответственно разделывать. Аналитика относится к языку как к инструменту, в то время как язык очень хорошо в этих случаях мстит, делая инструменты из аналитиков. Лучшей книгой, балансирующей между философией языка и философией анализа, является «Витгенштейн» Владимира Бибихина. Об отечественной традиции философии анализа я знаю чрезвычайно мало, зато хорошо осведомлён о русской (советской) логической школе, которая на общемировом уровне выглядит совсем неплохо. Сейчас я занят проблемой речи по той путеводной нити, которую указала в своей работе «Эффект софистики» Барбара Кассен. Это позволяет не удаляться от моих любимых греков (в данном случае Аристотеля и софистов) и, кроме того, подобраться поближе (появился повод) к средневековым схоластам, которые до сих пор оставались для меня чем-то далёким.
Если творчество – это сублимация, то философия языка стоит на стороне творчества, а философия анализа – на стороне сублимации в том смысле, что последняя говорит о том, что творчество – это на самом деле сублимация, в то время как философия языка может ответить: «Какое мне дело до вашего “на самом деле”?!» Вопрос не в том, чтобы излечиться, избавившись от сублимации, а в получении такого заряда последней, чтобы не иссякало первое. Можно ли получить дополнительный творческий импульс, изучая устройство творчества, – большой вопрос конституции аналитической философии, и находится он отнюдь не в ведении последней.
– Считаете ли вы принцип «изначального опоздания» центрирующим онтологию присутствия/отсутствия? Есть ли у вас основания для его критики?
– «Изначальное опоздание» – это временное опоздание к онтологической сличённости бытующего к моменту до онтологического различия бытия и бытующего в мире. В этом смысле этот момент сугубо мыслительный, исторически такого времени не было и, как думается – поскольку всегда существует мир, – исторически он нефиксируем. Об онтологической концепции «изначального опоздания» уже после написания своей книги я нашёл также кое-что у Хабермаса (которого, признаюсь, очень недолюбливаю). Но в любом случае присутствие чего-либо обязательно выделяет это что-либо (во-первых) из других присутствующих и (во-вторых) отделяет от его собственного бытия. Ведь ещё схоласты обратили наше внимание на невозможность совпадения сущности и бытия, которые, согласно Фоме Аквинскому, могут совпадать только в Боге – абсолютно простом существе. Итак, поскольку у нас мир (не говорю «имеется», «присутствует», «существует», «есть», ибо русский язык позволяет допустить принципиальную лакуну), постольку бытующее в мире всегда непросто. «Изначальное опоздание» конституирует мир как мир.
Вряд ли «изначальное опоздание» центрирует онтологию. Основания для критики этого принципа у меня появятся только тогда, когда будут найдены онтологические (строгие честные) основания отказаться от того мыслительного пути, который проделал Мартин Хайдеггер. Пока таких оснований я не вижу, и даже не могу предположить, откуда они могли бы появиться. Всё, что сегодня называется «критикой» Хайдеггера, – либо вообще не имеет отношения к философии, либо проистекает из принципиального непонимания этого мыслителя.
– Насколько невозможность удержать постановку вопроса о бытии является тавтологической, то есть перформативно-парадоксальной?
– Позволю себе разделить этот вопрос на две части: на ту, что до пояснения и после него, ибо только так – как на два разных вопроса – я могу здесь ответить. Прямой связи, то есть уточнения в этом уточнении («то есть») уследить не могу, поскольку не вижу в тавтологии ни перформанса, ни парадокса. Вопросительность вопроса о бытии не удерживается в мире, конституированном «изначальным опозданием», поскольку у нас всегда уже готовы ответы на этот вопрос, ещё до того, как его кто-либо вдруг задаст (не вдруг этот вопрос вообще не задается, то есть он является по сути своего происхождения темпоральным). В этом смысле невозможность и есть тавтология (а не вопрос о бытии): мы задаём вопрос и получаем в ответ невозможность понять вопрос как вопрос – вместе с ответом, думаем мы, а на самом деле: вместо ответа. В этом смысле мир мудрее нас: то, что в нём невозможно, он показывает через то, что мы полагаем в нём возможным.
Участие перформанса и парадокса в невозможности удержать вопрос о бытии видится уже в том «вдруг», которым вопрос основывается в мире снова и снова – несмотря (а может, и благодаря) на невозможность быть отвеченным именно так, как спрошено.
– Где вы проводите водораздел между филологией и философией, вспоминая слова философа Дмитрия Галковского: «И что это за “философия”, восприятие которой зависит от справки филолога?»
– Очень часто слышатся обвинения Хайдеггера в ложных этимологиях, в злоупотреблении языком. До этого точно так же обвиняли Платона (вспомните его «Кратила»). Но я прошу обратить внимание не на ложность этих этимологий, а на то, ради чего они делаются. В основном эти обвинения идут от филологов, но то, ради чего эти этимологии порождались, филологам зачастую оказывается не под силу. Ведь у нас велика опасность оказаться в совершенно стерильном и правильном мире, где нет ложных этимологий и «филологических» злоупотреблений языком не потому, что все правильно почувствовали язык (и почему это «правильно» обязательно должно стать «филологическим»?), а потому, что язык вообще отсутствует, то есть мёртв. Для патологоанатома не существует гриппа, под которым для философа я подразумеваю ложные этимологии. Но, как говорил Ницше, болезнь может научить болеющего тому, что. даже когда он был здоров, он был болен. Иначе говоря, болезнь может впервые вселить в нас идею здоровья. И боюсь, что в отношении языка это здоровье окажется отнюдь не таким, каким его привыкли видеть анатомирующие язык филологи.
– Разделяете ли вы некроложное опасение о философии как интеллектуальной практике, рассчитанной на трансгрессию границ возможного опыта? Можно ли назвать одиннадцатый тезис о Фейербахе ахиллесовой пятой философии?
– Философия, которая трансгрессирует границы возможного опыта, не ведает о Канте. А потому считаться философией не может. Тезис Маркса служит ахиллесовой пятой для тех, кто его высказывает в отношении философии как критику. Отвечу словами Спинозы: ложь не говорит ничего, а истина говорит о себе и о лжи. Этот тезис для высказывающих его – ложь лжеца. А для философов – это та ложь, о которой высказалась философия. Необходимо философское понимание того, что мог бы сказать Фейербах по поводу Марксова тезиса: философия до сих пор только изменяла мир, и тот, кто этого не видит, просто не способен ничего сказать ни о мире, ни о философии.
– В какой мере интрафизика (внутримирное как таковое: сфера человеческого бытия, капиталистический способ существования экономики и т. п.) является оборотной стороной метафизики?
– Никакой экономики, кроме капиталистической, к сожалению, быть не может. Иначе – придётся говорить о политике. Безусловно, интрафизика – это порождение метафизики и, вполне возможно, возрождение метафизики (а заодно и в какой-то мере её вырождение). В этом, возможно, и можно проследить судьбу – не бытия, но – нашу собственную. Однако стоит весьма осторожно относиться к теме судьбы бытия, которая сейчас стала расхожим (а точнее, отхожим) местом для тех, кто не способен вообще мыслить судьбу. Как правило, своё бессудебное мы относим на счёт судьбы бытия. Но если кто-то является учителем истории, а не победителем олимпиады по велогонке, то в этом нет ни судьбы бытия, ни судьбы истории, ни судьбы велосипедного спорта. Очень часто незначительное и есть то, что требует пристального внимания. Помните Ницше: мысли, которые переворачивают мир, приходят на голубиных лапах. Давайте дадим судьбе бытия возможность встать на собственные голубиные лапы, чтобы не выдавать топот солдатских сапог, взрывы террористических бомб и крики футбольных фанатов за его зовы.
– Как вы прокомментируете содержание университетских курсов по онтологии в России (например, на наличие в них диаматовских следов)? Каким образом вы бы их отредактировали?
– Необходимо больше читать источников на языке оригинала (филологи не правы в критике философии, но философы не должны давать им форы в этом отношении), а также чаще проводить вольные обсуждения проблем, которые близки изучающим. Психология полностью дискредитировала так называемый «межличностный» или, точнее, «личностный» подход в педагогике (точно так же, как филологи дискредитировали то, что называется писательским творчеством), но тем не менее платоновская пайдейя остаётся единственно верной концепцией философского образования на все времена.
– Констатируя излишество онтологии, которой не под силу удержать вопрос о бытии (то есть что-бытие) в его вопросительности, готовы ли вы вопрошать на более подходящем языке (например, на антиязыке, преодолевающем «изначальное опоздание»)?
– Я готов вопрошать на том языке, который позволяет удержать то, что высказывает так, чтобы оно стало не только про-говорено, но и остановлено в своём сказывании так, чтобы можно было пригласить своих друзей помыслить то, что сейчас сказывается. Причём сказывается не негативным образом (как упомянутая истина и истина лжи у Спинозы), а так, как являет нам себя то, что мы подспудно считаем само собой разумеющимся, но что вдруг становится средоточием нашей жизни, доводя её до безумия. Я готов вопрошать на том языке, который готов сойти с ума для того, чтобы высказать то, что он высказать не может.
– Если бы вам предложили написать книгу под названием «Критика толерантного разума», то какие вопросы вы бы затронули в ней?
– Невозможная книга, поскольку отсылает к кантовской формулировке вопроса относительно того, что вообще не опрашиваемо, ибо не существует. Будучи принципиальным противником смыслового содержания, которое пытаются выискивать в демократии, ничего хорошего в этой книге для толерантности ожидать нельзя.
Во-первых, никакого разума у толерантности нет и быть не может. Это – в высшей степени бездумие, боязнь мыслить и самое яркое выражение того, что Ницше называл «последним человеком», который «смотрит и моргает». Демократия, равно как и толерантность, – это лишь условие для чего-то иного, которое может быть достоянием мысли, в то время как демократия (в хорошем смысле) – как сказал бы Сартр – неэтична и представляет собой человеческие отношения между разными людьми. Если сделать это целью, а не тем, из чего исходите, то тем самым придётся допустить: а) отсутствие всяких человеческих отношений и б) попытку увидеть смысл там, где его нет.
Во-вторых, говоря кратко, я бы в этой книге поступил по отношению к толерантному разуму наиболее толерантным образом: позволил ему не быть вовсе, сгинуть – если только он вообще возможен. Философия от этого ничего бы не потеряла.
– Какое содержание вы вкладываете в такое понятие как «философская цензура», учитывая экстремистский характер философии?
– Вопрос предельный, балансирующий между политикой (или этикой – в аристотелевском смысле) и философией, как канат из вводной части «Так говорил Заратустра». Отвечающих на такого рода вопросы всегда может перепрыгнуть паяц, который до поры отсиживается в самих отвечающих. Давайте будем говорить о философской честности. Например, нельзя выдавать незнание чего-либо за оригинальность только потому, что человек неправильно выражается. Если человек знает и всё равно выражается неправильно, утверждая при этом, что в его словах есть правильность иного рода, то это уже близко к оригинальности, то есть самостоятельности мысли. Мысль, которая ступает там, где ступали прежде, не мыслит. Мысль, которая ступает там, где прежде не ступали, – экстенсивна как трактор, оставляющий под паром иссушенные поля безмыслия. Сюда относятся все так называемые «прогрессивные» или «перспективные» сплавы междисциплинарностей. Однако мысль, которая мыслит там, где мыслить нельзя, является таковой по преимуществу. Философия всегда имеет экстремистский характер, даже самая консервативная, поскольку мыслить там, где мыслить нельзя, значит одновременно вступать на путь, исхоженный донельзя. Это такой парадокс, о котором прекрасно ведали академики возле стен Афин или схоласты, вводящие в качестве обязательных диспутационный принцип мышления: в вопросах, ответах, возражениях и утверждениях.
Вопроса о цензуре я касался лишь в очерке о переписке Марселя Пруста со своим издателем. Подлинный цензор – это всегда тот, кто цензурирует самого себя, но не по критериям протестантской этики (а также принципов «как бы мне поступить, чтобы со стороны это выглядело вот так?»), а по критерию, который только и должен занимать философа – того, что именно им мыслится. Мыслимое определяет мыслящего – именно там и тогда, когда то, что мыслится, выглядит не иначе как немыслимым. Задача цензора в философе состоит в том, чтобы подводить его к немыслимости любого сущего, с одной стороны, и к необходимости мыслить это немыслимое вновь и вновь – с другой. Так мыслящий становится философом.
– В какой мере философия исчерпывается той библиотекой, которой владеет философ? Какую роль сыграло наличие в Саратове магазина интеллектуальной литературы «Оксюморон» в вашем философском становлении?
– Когда я пишу, то никогда не знаю, какая книга мне может понадобиться в ближайший час. У меня большая библиотека, и мне действительно помог – особенно в годы студенческие – магазин «Оксюморон». Но дело не только в том, чтобы купить книгу, а в том, чтобы её прочесть. У меня чрезвычайно жёсткий (а порою даже жестокий) график чтения. Никогда не понимал своих коллег, которые, выходя с работы, подобно офисным работникам, забывают о философии и занимаются «жизнью». Философия ограничивается не библиотекой, а головой того, кто библиотеку имеет (или не имеет). Сколько голосов слышит современный Сократ одновременно? – вот нерв этого вопроса. Демонов не бывает мало. Правда, зачастую создаётся впечатление, что у современных Сократов либо гул пустоты, либо немые (и, понятное дело, невидимые) демоны.
Беседовал Алексей Нилогов
http://topos.ru/article/6883 |