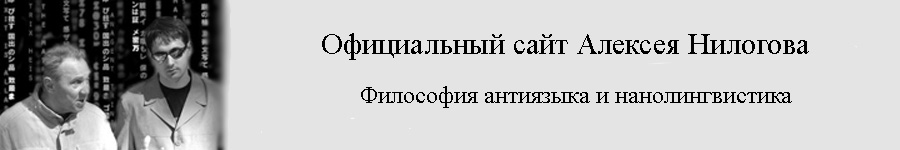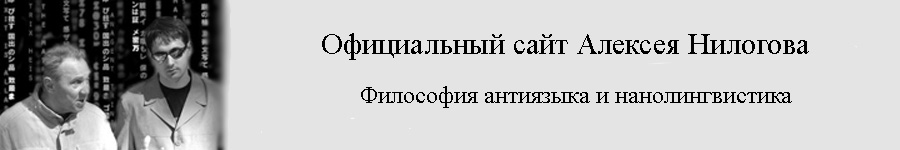Проблема ресентимента в философии – это вопрошание об основном вопросе философии, который может быть сам поставлен под вопрос. Глубинная ресентиментность философствования основывается на предпосылке о том, что философские предшественники склонны замыкать горизонт вопрошания рамками вечной философии, от имени которой постулируются принципы трансцендентальной схоластики, или константы философствования.
 В отличие от трактовки категории «ресентимента» Максом Шелером, радикально уточнившим ницшевский первоисточник (в защиту христианских моральных ценностей, в которых сам Ницше видел источник роста злобной мстительности), нас будет интересовать философская разновидность ресентимента, ориентированная на вопрос о философском оптимуме (наиболее благоприятные условия философствования). Оговоримся, что в соответствии с нашим пониманием рессентимент должен быть неискореним, чтобы каждый человек имел возможность совершенствоваться. Подлинная философия не признаёт людей, свободных от чувства рессентимента, а признаёт сам рессентимент движущей силой человека. Индивид, полностью свободный от чувства рессентимента, называется Богом, а философия есть не что иное, как попытка стать Богом, и этой попытке должна быть посвящена вся жизнь. В отличие от трактовки категории «ресентимента» Максом Шелером, радикально уточнившим ницшевский первоисточник (в защиту христианских моральных ценностей, в которых сам Ницше видел источник роста злобной мстительности), нас будет интересовать философская разновидность ресентимента, ориентированная на вопрос о философском оптимуме (наиболее благоприятные условия философствования). Оговоримся, что в соответствии с нашим пониманием рессентимент должен быть неискореним, чтобы каждый человек имел возможность совершенствоваться. Подлинная философия не признаёт людей, свободных от чувства рессентимента, а признаёт сам рессентимент движущей силой человека. Индивид, полностью свободный от чувства рессентимента, называется Богом, а философия есть не что иное, как попытка стать Богом, и этой попытке должна быть посвящена вся жизнь.
В чём смысл злобной мстительности в философии и её истории? Не в том ли, что по преимуществу линейная история философии не позволяет забыть версии теорий истины, словно некая имманентная диалектика, задолго до Гегеля вбирающая в себя все следы блужданий к истине? Такая злопамятная, что не может забыться в собственной рефлексии, каждый раз порождая дешёвые тавтологии. История философии представляет собой свалку всевозможных заблуждений и неудач, утилизация которых невозможна априори. Философема о том, что в философии существует прогресс, до сих пор используется в качестве жупела против самой философии. Отрицание ресентимента в философии – это отрицание такого жупельного использования. С другой стороны, крайне сомнительно говорить и о регрессе в истории философии, хотя некоторые философоиды (философствующие философоведы) готовы Иудиным поцелуем показать на постмодернизм. Утопичность забвения в истории философии является основной причиной ресентиментности персоны философа. Какова же аргументация такого – по сути ресентиментного – утверждения? Она в следующем: во-первых, в истории философии забываются второстепенные имена и концепции, нередко всплывая в историографии (ради объективности истории рассматриваемого вопроса), но опять же как второстепенные или как предтечевые; во-вторых, в истории философии того или иного философского сообщества весьма проблематично существование альтернативной истории философии, которая готова если не претендовать на отождествление с подлинной Историей Философии, то по крайней мере реанимировать неоправданно позабытые имена и философии. (Вопрос о подлинной Истории Философии – из разряда историософских par excellence, в то время как историософия обходится без соответствующей ей историософии философии (частично у К. Ясперса).)
В ницшевской трактовке ресентимента выделяют два значения – положительное и отрицательное, однако, с точки зрения риккертовского отнесения к ценности, и то, и другое могут быть отнесены либо к синтетическому денотативному, либо к двум равноправным коннотативным. Первое значение процитируем по огласовке Ницше: «В философии Ницше R.1 Предстаёт в качестве движущей силы в процессе образования и структурирования моральных ценностей. Он характеризует его как смутную автономную атмосферу враждебности, сопровождаемую появлением ненависти и озлобления, то есть R. – это психологическое самоотравление, проявляющееся в злопамятстве и мстительности, ненависти, злобе, зависти. Однако взятые по отдельности все эти факторы ещё не образуют самого R., для его осуществления необходимо чувство бессилия» [1: 968]. Второе значение (собственно проблематизируемое – в духе дарящей злодетели) следующее: необходимость в запале ресентимента для преодоления культурных стереотипов – условие переоценки ценностей (в том числе и философских). Поскольку главный упор в ресентименте Ницше сделал на генеалогии моральных ценностей, постольку мы можем редуцировать его на переоценку моральных ценностей внутри самой философии (вследствие того, что философия противопоставлена культуре, приходится с большой осторожностью говорить о культуре философии/философствования), а поскольку европейская философия проникнута традицией критики религии (знаменитая шестовская философема-антиномия «Афины – Иерусалим»), постольку, с методологической точки зрения, сподручней всего легитимировать ресентимент как непреложное условие всякого философствования. Опять же с методологической точки зрения, в трактовке ресентимента мы должны разойтись как с Ницше, так и с Шелером, лишь на первый взгляд минимизируя антихристианский и антисемитский пафос трактовки Ницше и максимизируя христианский и антиницшеанский пафос трактовки Шелера. Наша трактовка ресентимента рассчитывает получить такую дефиницию (а может быть, и индефиницию), согласно которой под ресентиментом будет пониматься психолого-трансгрессивное состояние философствующего, сочетающего в себе как подлинные, так и суррогатные антропологические практики (по С. С. Хоружему).
Позицию Ницше по ресентименту можно суммировать следующим образом: «Итак, истина первого рассмотрения – это психология христианства: рождение христианства из духа ressentiment, то есть движение назад, восстание против господства аристократических ценностей» [1: 968]. (Однако множественное понимание ницшевской «воли к власти» следует переинтерпретировать согласно им же определяемому ресентименту, а именно как признание приоритета власти независимо от того, кто именно олицетворяет и персонифицирует её, то есть вне выделения господ и рабов во власти.) «Моральный закон, по Ницше, не существует a priori ни на небе, ни на земле; только лишь то, что биологически оправдано, является добром и истинным законом для человека. Поэтому только сама жизнь имеет ценность. Каждый человек имеет такой тип морали, который больше всего соответствует его природе. Из этого положения Ницше и выводит свою историю морали – вначале мораль господ (сильных людей), а затем победившая её мораль рабов (победили не силой, а числом). Предпосылками рыцарски-аристократических суждений ценности выступают сила тела, цветущее, бьющее через край здоровье, а также сильная, свободная, радостная активность, проявляющаяся в танце, охоте, турнире, войне. Параллельно с такого рода суждением существовал и жречески-знатный способ оценки (который впоследствии будет доминировать) со свойственными ему нездоровьем, пресыщением жизнью и радикальным лечением всего этого через Ничто (или Бога). Однако главной характеристикой такой оценки Ницше считает бессилие, из которого и вырастает затем ненависть, из которой, в свою очередь, и возникает рабская мораль. Евреи, по мысли Ницше, этот «жреческий» народ, всегда побеждали своих врагов радикальной переоценкой их ценностей, или, по словам философа, путём акта духовной мести. Именно евреи рискнули вывернуть наизнанку аристократическое уравнение ценности («хороший = знатный = могущественный = прекрасный = счастливый = боговозлюбленный). Для Ницше такой акт ненависти – это не вина, не преступление, а естественный ход истории морали: чтобы выжить и сохранить себя как народ, евреям необходимо было совершить акт бездонной ненависти (ненависти бессилия) – свою слабость они сделали силою. И теперь только отверженные, бедные, бессильные являются хорошими, только страждущие, терпящие лишения больные являются благочестивыми и только им принадлежит блаженство. Христианство в полной мере унаследовало эту еврейскую переоценку. Так, заключает Ницше, именно с евреев начинается «восстание рабов в морали», так как теперь R. сам становится творческим и порождает ценности» [1: 968]. В последних словах – источник второго значения ресентимента, которое определяется в качестве ценностнопорождающего, творчески-преодолевающего предшествующие нормы и правила. Переоценка философских ценностей путём акта критической мести – это дух вечной жидовскости в философии, сдобренный средствами формальной логики. Вновь процитируем Ницше: «Еврей, напротив, сообразно кругу занятий и прошлому своего народа как раз меньше всего привык к тому, чтобы ему верили: взгляните с этой точки зрения на еврейских учёных – они все возлагают большие надежды на логику, стало быть, на принуждение к согласию посредством доводов; они знают, что с нею они должны победить даже там, где против них налицо расовая и классовая ненависть, где им неохотно верят» [3: 670].
Ницшевская история морали представляет интерес в параллели с философией, в которой философские школы, как правило, противопоставляются философам-одиночкам, пытающимся соблюсти методологическую чистоплотность своей философии. Вот как об этом говорит доктор философских наук В. В. Миронов: «Что означает школа? Это некий институт последователей или сторонников концепции, которые таковыми сами себя объявили, как правило, после смерти той или иной фигуры. Философским адептам не хватает сил для самостоятельного философского мышления, что вынуждает их записываться в ученики к мэтрам. Не думаю, что после античности были серьёзные философские школы. Более того, именно «последователи» чаще всего искажают идеи оригинального мыслителя, опираясь на значимость имени. Для самого философа, за которым «следуют», – это безразлично, его концепция – продукт самобытного творчества. Неогегельянство – это уже не Гегель, как и неокантианство – это уже не Кант, а социал-дарвинизм или неофрейдизм – вообще трудно назвать концепциями Дарвина и Фрейда. Я бы так сказал, перефразируя библейскую притчу: «бойся последователей, тебя развивающих». Нередко «школы» создаются искусственно, как было в советское время, когда кто-то из философов назначался «отцом школы», и за ним выстраивалась цепочка из аспирантов. Я очень скептически к этому отношусь. Философия – свободное мышление, которое вовсе не обязательно к чему-то и кому-то привязывать. Она носит принципиально индивидуальный характер. Корпоративное философствование – нечто странное даже для самой философии» [4].
Не секрет, что пресловутая метафора о «смерти (истории) философии» во многом спровоцирована, с одной стороны, восстанием философских рабов, то есть последователей тех или иных философов-господ (кантианцы, гегельянцы, марксисты, ницшеанцы, гуссерлианцы, дерридианцы), а с другой – восстанием философоведов, то есть специалистов по философии (кантоведы, гегелеведы, марксоведы, ницшеведы, гуссерлеведы, дерридаведы), или даже – философоидов, то есть стилизаторов-графоманов под дискурс того или иного философа-господина, которые не столько философствуют, сколько «делают» философию (кантоиды, гегелоиды, марксоиды, ницшоиды, гуссерлоиды, дерридоиды). Поскольку мы исходим из тезиса о том, что философия – это сплошной ressentiment, постольку категория ресентимента становится центрирующей всю историю философии.
Ещё раз обратимся к уточнению (а по сути – к утончению) дефиниции «ресентимент»: «Если всякая преимущественная мораль начинается из самоутверждения: говорит «Да» жизни, то мораль рабов говорит «Нет» всему внешнему, иному. Это обращение вовне, вместо обращения к самому себе как раз и есть, по Ницше, выражение R.: для своего возникновения мораль рабов всегда нуждается в противостоящем и внешнем мире, то есть, чтобы действовать, ей нужен внешний раздражитель, «её акция в корне является реакцией». Ницше отмечает, что человек аристократической морали полон доверия и открытости по отношению к себе, его счастье заключается в деятельности. Наоборот, счастье бессильного выступает как наркоз, «передышка души», оно пассивно. Человек, характеризующийся R., лишён всякой открытости, наивности, честности к самому себе. Если сильным человеком одолевает R., то он исчерпывается в немедленной реакции, оттого он никого не отравляет. Таким образом, из неумения долгое время всерьёз относиться к своим врагам проистекает уважение к ним, то есть, по Ницше, настоящая «любовь к врагам своим» [1: 968]. Другими словами, «человек ресентимента» вынужден пересиливать собственную ресентиментность, чтобы не быть захваченным страстями, поскольку бессилие не может миновать активной фазы, а потому реактивность ресентимента всегда производна. Не имеет никакого значения, какова продолжительность такой акции, поскольку реакция должна быть спровоцирована всегда чем-то извне. Бессилие ответной акции как раз и порождает реакцию (иначе бы не существовало противопоставления на акцию и реакцию), которая впоследствии может принимать различные формы. «Творчество «человека R.» измышляет себе злого врага и, исходя из этого, считает себя «добрым». Первоначальная нацеленность ненависти постепенно размывается неопределённостью самого процесса объективации. R. больше проявляется в той мести, которая меньше нацелена на какой-либо конкретный объект. Таким образом, R. формирует чистую идею мести, он лучше всего «произрастает» там, где есть недовольство своим положением в иерархии ценностей. Отсюда можно выделить две формы R.: месть, направленная на другого, то есть другой виноват в том, что я не такой, как он; месть, направленная на самого себя, самоотравление. Если первая форма относится к экстравертируемой модели R. – восстанию рабов в морали, то вторая относится к интравертируемой – аскетическому идеалу» [1: 968]. Недовольство наличным положением может быть истолковано как несоответствие места, занимаемого в иерархии, своему предназначению и как ущемление того экзистенциального оптимума (вне эстетических и этических категоризаций), который позволяет человеку быть человеком. В приложении к философии мы ведём речь об особом философском оптимуме, а также о философской гениальности (неразличённость которой можно метафорически отразить в следующих вопрошающих примерах: «В чём принципиальная разница между шестилетним Фридрихом Ницше и сорокалетним? Между двадцатилетним Мартином Хайдеггером и семидесятилетним?»). Чтобы доопределить две формы ресентимента и различить их с нашей трактовкой (творчески-оправданная мстительность к предшественникам, квинтэссенция которой может быть выражена следующей цитатой из И. Ньютона: «Мы как карлики на плечах гигантов и потому можем видеть больше и дальше, чем они»), давайте обратимся к мистерианской теории сознания Ф. И. Гиренка. Согласно ей, настоящий философ – это по преимуществу аутист, – человек, воздействующий на себя, а не живущий за счёт влияния другого. В целом, философии сознания Гиренка очень тесно переплетается с понятием ресентимента, но, несмотря на такую близость, всё-таки требует соответствующей нюансировки. И хотя аутистическая теория сознания сориентирована на современное состояние развития философии, тем не менее её самостный стержень отражает пафос ресентимента, когда в поиске себя и своего философского призвания отсеивается всё наносное и чужое, а сама злобная мстительность приобретает очищающий (катарсический) характер. «Кризис современной антропологии состоит в том, что философия, поставив под вопрос существование реальности, тем самым лишила смысла идею приспособления к ней. Теперь невозможно стало мыслить человека как высшую степень возможного, как то, что было подготовлено эволюцией. Человек – это не реалист, а аутист. Даже реалисты должны мыслиться как бывшие аутисты. А это значит, что представление о биосоциальной природе человека лишено смысла, что не труд создал человека, а абсурд. Что в основе искусства лежит не принцип мимесиса, а бессмысленность реакций галлюцинирующего сознания. Поэтому реализм в искусстве является неплодотворной метафорой искусства. В изобразительном искусстве важно не изображение, а воображение. Реальность – это продукт самоактуализации самости человека. И в этом смысле она ничем не отличается от сознания, которое появляется не для отражения мира, а для воздействия на самого себя, для причинения себе ущерба.
Внутренне знание, достигаемое симуляцией, предшествует внешнему знанию, получаемому имитацией. Симулируют невозможное. Имитируют наличное. Поэтому симулякр – это не подделка, а способ общения без сообщения. Аутист освобождает своё существование от необходимости отсылать к другому существованию. Человек относится к невозможному в составе наличного. При этом следует иметь в виду, что если возможное реализуется, то невозможное актуализируется.
Визуализация современной культуры и систем мышления свидетельствует о реанимации статуса эмоции, о поисках приемлемых механизмов включения самовоздействия человека. В этом самовоздействии «я» не играет или почти не играет никакой роли.
Каждый человек, теряя самость, цепляется за другого, за среду своей жизни. Реалист не может помыслить себя без другого, без социума. Если в коммуникации реалиста с другим, со средой обитания происходят разрывы, то у него меняется аппетит, дезорганизуется сон, появляются психоневрозы, нарушается связь с социальной средой.
Сосредоточенность на другом заменяет сосредоточенность на «я». Центром человека оказывается не его «я», не мистическое мы, а социум, множество поименованных других. У героев Платонова на месте «я» оказывается идея революции, государства, партии. Эти идеи, как молитва, непрерывно творимая, пронизывают всего человека, окрашивая его личную жизнь, семейные отношения и сновидения.
Центрированный социумом человек должен быть в постоянном движении, в действии. Его работа не должна прекращаться ни на минуту. Даже во сне он должен работать. Его действия исключают всякую паузу, созерцание, размышление. Во всякое время он готов ко всему. В нём ценится эмоция риска, поиск нового, желание быть первым.
Реалист порывает отношения с тем, что его окружает. Он не может ни с кем иметь долгие близкие отношения. Внешнее становится неотчуждаемым от его «я». То есть между внешним и внутренним человеку нельзя поставить свое «я», ибо оно дано уже вместе с внешним. При разладе между «я» и средой, происходит распад в «я», в душе. У реалиста нет самости. Он человек-функция, его «я» сращено с его ролью.
«Я» – это просто мировая дыра, поименованное другим несуществование. Ибо в социуме каждому «я» присваивается имя, которое не является актом самонаименования. Именованное другим «я» говорит на языке другого. Собственная речь «я» пуста.
Язык создан не столько для обмена мыслями, сколько для защиты внутреннего знания, то есть уже-сознания. Язык – это кожа на теле самости без «я», модель сознания. Поэтому в языке всегда два языка: ритуальный и практический.
Языком пользуются, а не живут. Язык – не дом бытия, а проходной двор. Сам по себе язык – это великий немой. В нём нет ни мыслей, ни сознания. Без воображения в нём нельзя построить и двух предложений, а тем более связать их между собой.
Только речь соединяет язык и воображение, результатом которого является мышление. Поэтому мысли в речи не от языка, а от ума. Посредством языка можно обмениваться мыслями. А это значит, что люди понимают друг друга только лишь потому, что никто не имеет своего языка. Непонимание – это факт присутствия сознания по отношению к самому себе. Поэтому либо мир заставит тебя говорить на своём языке, либо он заговорит на твоём языке» [2: 399-401].
Можно сказать, что второе (производное) значение ресентимента более ресентиментно, чем производящее, потому что выступает как злопамятное – мстящее за своё забвение производящему значению и собственной этимологии, чтобы с накопленной ресентиментностью деконструировать его. Заметим, что в отличие от М. Шелера мы не склонны демонизировать психологическую негативность ресентимента, настаивая скорее на обязательном присутствии такой негативности (сознательно культивируемый ресентимент с целью воспитания в себе духа критики творческого сознания)2.
Философия ресентимента демонстрирует подноготную философствования, которую Ницше определял как волю к здоровью. Вся история философии – это история болезни, дефекта, недуга, слабости и ущерба. Поскольку один из истоков ресентимента Ницше видит в «жречески-знатном способе оценки (который впоследствии будет доминировать) со свойственными ему нездоровьем, пресыщением жизнью и радикальным лечением всего этого через Ничто (или Бога)» [1: 968], постольку её философская разновидность, отличающаяся предельным аристократизмом духа, как нельзя лучше подчёркивает такую ресентиментность. Вот что пишет Ницше о философском здоровье в предисловии к «Весёлой науке»: «В распоряжении психолога есть мало столь привлекательных вопросов, как вопрос об отношении между здоровьем и философией, а в случае, если он и сам болеет, он вносит в собственную болезнь всю свою научную любознательность. Ибо предполагается, что тот, кто есть личность, имеет по необходимости и философию своей личности: но здесь есть одно существенное различие. У одного философствуют его недостатки, у другого – его богатства и силы. Первый нуждается в своей философии, как нуждаются в поддержке, успокоении, лекарстве, избавлении, превозношении, самоотчуждении; у последнего она лишь красивая роскошь, в лучшем случае – сладострастие торжествующей благодарности, которая в конце концов должна космическими прописными буквами вписываться в небо понятий. Но в других, более обыкновенных случаях, когда философия стимулируется бедственным положением, как это имеет место у всех больных мыслителей – а больные мыслители, пожалуй, преобладают в истории философии, – что же выйдет из самой мысли, подпадающей гнету болезни? Вот вопрос, касающийся психолога, и здесь возможен эксперимент. Не иначе, как это делает путешественник, предписывающий себе проснуться к назначенному часу и затем спокойно предающийся сну, так и мы, философы, в случае, если мы заболеваем, предаёмся на время телом и душою болезни – мы как бы закрываем глаза на самих себя. И подобно тому, как путешественник знает, что в нём не спит нечто, отсчитывая часы и вовремя пробуждая его, так и мы знаем, что решительный момент застанет нас бодрствующими, – что тогда воспрянет это самое нечто и поймает дух с поличным, то есть уличит его в слабости, или в измене, или в покорности, или в помрачении и как бы там ещё не назывались все болезненные состояния духа, которые в здоровые дни сдерживаются гордостью духа (ибо как гласит старая поговорка: «Три гордых зверя делят трон – гордый дух, павлин и конь»). После такого самодознания и самоискушения учишься смотреть более зорким взором на все, о чём до сих пор вообще философствовали; разгадываешь лучше, чем прежде, непроизвольные околицы, плутания, пригретые солнцем привалы мысли, вокруг которых вращаются и которыми совращаются страждущие мыслители именно в качестве страждущих; теперь уже знаешь, куда больное тело и его нужда бессознательно теснит, вгоняет, завлекает дух – к солнцу, покою, кротости, терпению, лекарству, усладе любого рода. Каждая философия, ставящая мир выше войны, каждая этика с отрицательным содержанием понятия счастья, каждая метафизика и физика, признающие некий финал, некое конечное состояние, каждое преобладающее эстетическое или религиозное взыскание постороннего, потустороннего, внележащего, вышестоящего – всё это позволяет спросить, не болезнь ли была тем, что инспирировало философа. Бессознательное облегчение физиологических потребностей в мантию объективного, идеального, чисто духовного ужасает своими далеко идущими тенденциями, – и довольно часто я спрашивал себя, не была ли до сих пор философия, по большому счёту, лишь толкованием тела и превратным пониманием тела. За высочайшими суждениями ценности, которыми доныне была ведома история мысли, таятся недоразумения телесного сложения, как со стороны отдельных лиц, так и со стороны сословий и целых рас. Позволительно рассматривать все эти отважные сумасбродства метафизики, в особенности её ответы на вопрос о ценности бытия, как симптомы определённых телесных состояний, и ежели подобные мироутверждения или мироотрицания, в научном смысле, все до одного не содержат и крупицы смысла, то они всё же дают историку и психологу тем более ценные указания в качестве симптомов, как уже сказано, тела, его удачливости и неудачливости, его избытка, мощности, самообладания в объёме истории или, напротив, его заторможенности, усталости, истощённости, предчувствия конца, его воли к концу. Я всё ещё жду, что когда-нибудь появится философский врач в исключительном смысле слова – способный проследить проблему общего здоровья народа, эпохи, расы, человечества, – врач, обладающий мужеством обострить до крайности мое подозрение и рискнуть на следующее положение: во всяком философствовании дело шло доныне вовсе не об «истине», а о чём-то другом, скажем о здоровье, будущности, росте, силе, жизни» [5]. Похвально, что сам Ницше в том же предисловии даёт понять о собственной зависимости от нездорового философствования, пускай и предвзято переинтерпретированного исследователями его творчества. Болезненное, или ресентиментное, философствование ставит перед нами вопрос о соотношении таких понятий, как философия и философствование, а также о философской разновидности калокагатии, чьё решение напрямую зависит от вопроса о философском оптимуме. Обычно под «философствованием» понимают несистематическое и спорадическое занятие философией, ни к чему не обязывающее досуговое времяпрепровождение, а под «философией» – целенаправленную деятельность, сводящуюся к постижению фундаментальностей бытия. Термин «философствование» используют в качестве иронической отмашки, чтобы охарактеризовать человека, пытающегося во что бы то ни стало зарекомендовать себя философом. Его усилия либо незначительны, либо чересчур активны, – всё в нём выдаёт желание казаться философом не «за», а «вопреки», несмотря ни на что, наперекор всем обстоятельствам. В этом смысле «философствование» заряжено энергией ресентимента и может быть отнесено к деятельности «философских новичков» (одноимённый афоризм Ницше), которым, с одной стороны, не чуждо исконно философское удивление (Аристотель), а с другой – независимость от мыслепорождающего диктата книг (ещё один афоризм Ницше). Тип homo philosophicus’a – удел философии par excellence, которая представляет собой волю к истине, в том числе и волю к истине (воли) власти. Однако слишком аристократическое понимание философии может иметь обратные последствия (например, превращение философии в метафизическую башню из слоновой кости, – не в философию ради самой философии (при асимметричной синонимии с Philosophia Perennis), а в философию вечного сна, в котором философия или ещё не начиналась, или уже закончилась). Вопрос о пред-неопределённости своего пути в философии снимает метафизические спекуляции о свободе воли, поскольку выбор своего пути лишь отчасти удостоверяется философским оптимумом (наиболее благоприятные условия философствования). Поскольку философская калокагатия предполагает гармонию, как правило, рационального (философская телесность письма) и психически-нормального (душевная составляющая), постольку она расходится с понятием философского оптимума, не сводящего идеал философа к стереотипам рациональности и ума Нового времени. Философия ресентимента – это гимн безумию, чья мудрость до сих пор остаётся скрытой от философа, а идеал философа – философское животное с соответствующим инстинктом, пускай и в культуропорождающей форме, но с оглядкой на культуристскую реконструкцию самой природы (М. Н. Эпштейн). Философский оптимум снимает полярность противоречий ницшевского схематизма истории морали и истории философии, а категория сослагательного наклонения, чья первая прописка – в философии истории, становится ресентиментной методологией альтернативной истории философии.
1. Ressentiment (фр. мстительность) – понятие, имеющее особое значение для генеалогического метода Ницше. Сам Ницше предпочитал употреблять слово «R.» без перевода» [1: 968].
2. Отметим также, что категория ресентимента является обратной стороной теории консциенциального импотентизма Ф. И. Гиренка, согласно которой о человеке можно говорить только тогда, когда он вызывает фантазмы (мыслящий хаос), отсрочивая активное действие вовне. Реактивность теории Гиренка состоит в том, что внешний мир постулируется через объективацию внутренних галлюцинаций. Самым уязвимым моментом этой теории является оборачиваемость её в сплошной ресентимент и вульгарно понимаемый солипсизм. Последователи Гиренка – это философские самоубийцы, которые должны так воздействовать на самих себя, чтобы рождаемые ими галлюцинации фундировали страдающее сознание, представляющее собой пучок отложенных эмоций. Особо в этой связи непонятен статус счастливого сознания, невозможного согласно философеме В. С. Соловьёва «Стыжусь, следовательно, существую».
Источники
1. Всемирная энциклопедия: Философия. XX век / Главный научный редактор и составитель А. А. Грицанов. – М.: АСТ, Мн: Харвест, Современный литератор, 2002. – 976 с.
2. Кто сегодня делает философию в России. Т. I. – М.: Поколение, 2007. – 576 с.
3. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. Литературные памятники / Составление, редакция изд., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна; Пер. с нем. – М.: Мысль, 1990. – 829, [2] с., 1 л. портр.
4. http://www.censura.ru/articles/mironovinter.htm.
5. http://www.nietzsche.ru/books/book8_1.shtml.htm.
http://organon.cih.ru/opyt/nilogov01.htm
|